Предчувствие - [60]
Конечно, это мой старший брат. Он – Мераб, а я – Або. Ну, старший – говоря условно, разница всего в три года. Отныне этот отрезок времени, когда-то столь важный, с каждым днем будет все больше терять значение (если, конечно, не считать огромной роли прошлого, присутствующего в настоящем). Погибшие родители, насильственное выбрасывание в одиночество – все это, естественно, выдумки. Даже странно видеть вас в роли попавшегося в эти неловкие силки. Впрочем, это же не вы сидящий здесь, а вы прежний, по сути еще ребенок. Дети ведь готовы к таким небылицам. Что ж, довольно оригинальный ход с его стороны. Но, увы, к вящему расстройству брата, мне не удастся вспомнить совсем ничего трагичного в его жизни. Семейные ужины, бесконечные игры во дворе, походы в музеи, занятия спортом, драки, мелкие склоки с родителями, обычное, в меру счастливое, в меру несчастное, скажем так, заурядное столичное детство. Трагичность потребуется придумать. Особенно смешно про сына простого слесаря, подлинное излишество. Учитывая высшее образование, имевшееся даже у нашего прадеда. Отец – академик, полистайте какую-нибудь мало-мальски приличную научную энциклопедию и непременно обнаружите Шоту Отаровича. А вот сыну, увы, не удастся повторить карьеру отца. Наверное, он из тех, кому всегда нужно что-то другое, но нет сил не только совершить это другое, но даже осознать, что оно такое. Поэтому отъезд тут способен предложить иллюзию выхода: ничего толком не изменится, зато появятся основания убедить себя в изменении, в радикальном отказе, едва ли не в подвиге. Конечно же, совсем не захочется смотреть на это как на тень отцовского успеха. О, такое предположение, конечно же, вызовет гнев у добровольного отверженца! Благородное, праведное возмущение! Но если представить, что брат жив, то у меня нет никаких сомнений, что следующий свой отпуск он, как обычно, проведет в Столице. Будет гулять по знакомым улицам, заглянет в консерваторию, в книжные магазины, на могилу родителей. Это же неотъемлемая часть его привычек. (Тут он попытается улыбнуться.)
Петр: А как же дом в лесу, якобы навещаемый каждые каникулы?
Або: Еще одна фантазия. Задумайтесь о простейшем: в лесу нет книжных магазинов. Откуда же возьмется столько новых книг, если не привозить их из Столицы? Ну да, придется потратить некоторое количество времени на отклеивание ценников, но ради сохранения мифа и не на такое можно пойти.
Петр: Да, теперь ясно. (Пауза.) И все-таки зачем все это вранье?
Або: Скажу так: оно – часть его природы. С самого детства. В какой-то момент ему понадобится лгать о себе, придумать драматические обстоятельства, умолчать даже о младшем брате, нередко выступавшем в роли, скажем так, доверенного лица, нашу детскую дружбу-вражду, увы, никуда не денешь, но можно хотя бы скрыть ее от других. Конечно, в какой-то момент меня в качестве слушателя ему станет мало, понадобится более подходящий, не искушенный правдой, способный поверить в совершенство обрастающей все новыми подробностями легенды. Впрочем, надо отдать ему должное, это и не совсем вранье. Скорее выстраивание образа того, кем так и не удастся стать. Наверное, что-то вроде потребности скрыть от себя внутреннюю раздвоенность (так скажут психоаналитики). Или наоборот – желание ни за что не терять раздвоенности (так скажут поэты). Кстати, если подойти ко всему с другой меркой, проделанное им не столь уж ничтожно. Осуществленный вопреки возражениям родителей отъезд сложно, конечно, назвать бунтом. Этот побег от почти немощных стариков как раз в тот момент, когда они все больше начнут нуждаться в помощи, не так уж сильно похож на героический жест, но все же это состоявшийся поступок, особенно в рамках его удивительно скупой на действия системы координат.
Петр: У меня пока что нет сил увидеть в этом что-либо, кроме странной, фальшивой недоговоренности.
Або: Но почему бы не взглянуть на это как на театр или даже как на литературу? Разве там меньше лжи? И разве там не все должно быть принесено в жертву образу? (Снова эти непосильные старания улыбнуться.)
Петр: Пожалуй. Но все равно должно будет пройти какое-то время, пока эти два мира не сумеют соединиться.
Або: В каком-то смысле все эти его ловкачества даже можно назвать бессознательной борьбой с историей (трудно сказать, с заглавной или строчной буквы, здесь понадобится какая-то промежуточная). И вообще – способна ли история вызывать какие-то чувства, кроме стыда?
Петр: Зачем впутывать сюда темы Альмы?
Або: Нет, нет. (Поймет, что он в двух шагах от того, чтобы вконец заиграться сравнениями.) Придумать отсутствие истории невозможно. Сначала придется придумать боль, а тут уже непросто скрыть фальшь. Лживая гримаса подлинного лица все равно рано или поздно проступит сквозь искренность маски. Да, наверное, это его главная, сокровенная мечта, спрятанная настолько глубоко внутри, что так и не получит шанса стать узнанной. Беда еще и в том, что первичная история в этой игре никуда не денется, она будет постоянно напоминать о себе, теснить выдуманную, подмешиваться к ней.
Петр: А вдруг самое ценное в его замысле – это невозможность его осуществления? (

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
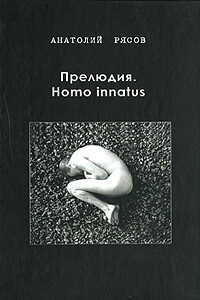
«Прелюдия. Homo innatus» — второй роман Анатолия Рясова.Мрачно-абсурдная эстетика, пересекающаяся с художественным пространством театральных и концертных выступлений «Кафтана смеха». Сквозь внешние мрак и безысходность пробивается образ традиционного алхимического преображения личности…
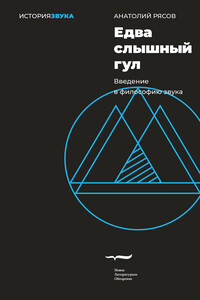
Что нового можно «услышать», если прислушиваться к звуку из пространства философии? Почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства, а чаще и вовсе не покидает территории техники? Эти вопросы стали отправными точками книги Анатолия Рясова, исследователя, сочетающего философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна «Мосфильм». Обращаясь к концепциям Мартина Хайдеггера, Жака Деррида, Жан-Люка Нанси и Младена Долара, автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноменологического дискурсов, но одновременно – как загадочные лакуны в истории мысли.
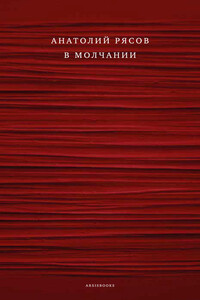
«В молчании» – это повествование, главный герой которого безмолвствует на протяжении почти всего текста. Едва ли не единственное его занятие – вслушивание в гул моря, в котором раскрываются мир и начала языка. Но молчание внезапно проявляется как насыщенная эмоциями область мысли, а предельно нейтральный, «белый» стиль постепенно переходит в биографические воспоминания. Или, вернее, невозможность ясно вспомнить мать, детство, даже относительно недавние события. Повесть дополняют несколько прозаических миниатюр, также исследующих взаимоотношения между речью и безмолвием, детством и старостью, философией и художественной литературой.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Держать людей на расстоянии уже давно вошло у Уолласа в привычку. Нет, он не социофоб. Просто так безопасней. Он – первый за несколько десятков лет черный студент на факультете биохимии в Университете Среднего Запада. А еще он гей. Максимально не вписывается в местное общество, однако приспосабливаться умеет. Но разве Уолласу действительно хочется такой жизни? За одни летние выходные вся его тщательно упорядоченная действительность начинает постепенно рушиться, как домино. И стычки с коллегами, напряжение в коллективе друзей вдруг раскроют неожиданные привязанности, неприязнь, стремления, боль, страхи и воспоминания. Встречайте дебютный, частично автобиографичный и невероятный роман-становление Брендона Тейлора, вошедший в шорт-лист Букеровской премии 2020 года. В центре повествования темнокожий гей Уоллас, который получает ученую степень в Университете Среднего Запада.

Яркий литературный дебют: книга сразу оказалась в американских, а потом и мировых списках бестселлеров. Эмира – молодая чернокожая выпускница университета – подрабатывает бебиситтером, присматривая за маленькой дочерью успешной бизнес-леди Аликс. Однажды поздним вечером Аликс просит Эмиру срочно увести девочку из дома, потому что случилось ЧП. Эмира ведет подопечную в торговый центр, от скуки они начинают танцевать под музыку из мобильника. Охранник, увидев белую девочку в сопровождении чернокожей девицы, решает, что ребенка похитили, и пытается задержать Эмиру.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.