Повести и рассказы - [77]
— Эх, нюня, — вздохнул отчим и жестко закончил: — Нукась, хватай тележку и тащи на улицу!
— Я к ним не пойду...
— А туда никто и не зовет!
Никита во все глаза глядел на отчима: сейчас он такой, каким бывал, когда рисовал парашютиста, словно прикасался к чему-то светлому, что живет в душе, — огромному, доброму...
— Гони галопом! — весело понукал отчим Горенкина, который, упираясь, волочил тележку по песку вдоль сараев. — Осторожней, тут бельевые веревки, не наткнись‚— предупредил он. — А теперь рули мимо ЖКО к дому номер девять, к среднему подъезду... Эх, ночь-то великолепная, пахнет... тополями, яблонями, землей!
— И помойными ямами, — буркнул Горенкин.
— Во-во, отсюда вся и морока, что ты одни помойки видишь, а вокруг них-то — красота кипит!
За дверью квартиры повозились с цепочкой, щелкнул замок: щурясь, на пороге в пижаме и шлепанцах появился Шандабылов, от удивления он заскреб волосатую грудь.
— Мы к тебе, Федорыч, — снизу подал голос отчим, — с этим оболтусом, — Горенкин рванулся было прочь, но он цепко ухватил его за штанину: — Ты куда?
Шандабылов молча взял парня за шею и втолкнул в коридор.
Люся притулилась спиной к стене — веки смежены, будто спит она. В подъезде полумрак, наверху разговаривают — наверное, парочка облюбовала подоконник в пролете. С мусорным ведром прошла женщина — демисезонное пальто не застегнуто, и виднеются полы цветастого халата. Она подозрительно понюхала, позыркала по углам, заворчала: «Не сорите, окурки не бросайте... Шляются!» «Да мы не курим!» — миролюбиво ответил Никита.
«Воспользуйся, пока наедине, — убеждал он себя, — скажи что-нибудь Люсе, может, опять предложить куртку?» Но путное не шло на ум. Он отвернулся, пытаясь сосредоточиться. Шорох сзади заставил его выпрямиться — Люся потерянно опустила руки:
— Поздно уже... Побегу...
— Я провожу тебя!
— Не надо, я сама... Ты... хороший, — она потянулась на носках и неумело, едва ощутимо коснулась плотно сжатыми губами щеки парня, низко наклонив голову, рванулась по ступенькам вниз, на выход.
Никита вспыхнул, побежал было за ней, но удержался: в висках бешено стучало, подкосились ноги. Он еще не очухался, когда открылась дверь и на толкушках выбрался отчим:
— Люся-то где?
— Домой помчалась...
— И нам пора.
Лишь возле сарая Никита догадался спросить:
— До чего вы там договорились?
— Э, Никит, из лап Федорыча не колыхнешься: если взялся за кого — считай, обтешет первый сорт! Ленька у него заночует.
Никита задохнулся от внезапной догадки:
— И меня ты отдал к нему на обтеску?
В темноте не видно лица отчима, он безмолвствовал, ошеломленный словами пасынка; опомнившись, сказал, и не узнать горькой, торопливой речи:
— Засвети в сарае...
Казня себя за резкость, Никита шарил по полке, отыскал коробок со спичками, зажег керосиновую лампу. Отчим вскарабкался на низенькую широкую табуретку, слазил под верстак, зачем-то достал колодку, повертел ее и бросил.
— Садись, Никит.
— Я постою.
— Как хочешь... Этот разговор должен был состояться. Непременно! Правда, думал по-иному обставить. Шандабылов... это человек, — голос отчима дрогнул, пальцы схватили с пола древесную стружку, смяли ее. — Пора тебе все знать, Никита, не маленький уже...
Он пристально смотрел мимо пасынка на мигающую лампу, словно там, за границей света, развертывались тягостные картины жизни.
— По госпиталям я, латаный-перелатаный, провалялся почти до конца войны. Выпустили, а куда идти? Один-одинешенек, мать-то померла. Запил я, Никит, ох и крепко запил! Много нас таких мыкалось. У инвалидов пенсия, да разве хватит на водку? Облюбовал я место на железнодорожном мосту, положу фуражку и песни пою. Ох и подавали, когда «Землянку» или «Темную ночь» тянул! Тут главное слезу выдавить: сам заплачешь — глядя на тебя, прохожие разжалобятся и обязательно мелочишку кинут. Так и жил — беда горло утянула, как петля, податься некуда... Утречком как-то притащился на мост, хотел малость подсобирать к открытию палатки в поселке, чтоб похмелиться. А народ идет незнакомый — телогрейки да шинели серые весь мост заполнили, лица озабоченные, — и стыдно мне стало просить у рабочего люда милостыню. Фуражку нахлобучил поглубже — и поскорей сматываться. Спускаться одному несподручно, кричу: «Братцы, подсобите!» Подхватили меня двое, снесли вниз, на землю поставили. Я только двинулся прочь — чувствую, кто-то за плечо тронул и наклоняются глаза, участливые и строгие, губа верхняя шрамом изуродованная. «Куда путь держишь, браток?» — спрашивает. В госпиталях-то от немощи скрипить зубами, но все же надеешься на чудо, а тут впервые ощутил безысходность и обиду, что мимо, мимо катится жизнь и никому до меня нет дела! Вот и этот, с виду серьезный мужик, пожалеет и смоется. Озлобился я: «Чего к инвалиду пристал? Разве не знаешь, что пути у нас два — в больницу иль на кладбище! Хлобыстай и не забудь пописать на мамашин фикус!» Сгрудились вокруг люди, а у меня дикое желание, аж руки зудят, испоганить все, изничтожить, чтобы и им опротивело жить, — матерю напропалую. Тогда он и говорит задумчиво: «Запутался малый... Зацепим, ребята, на буксир?» Тянут меня на тележке в завод. Вахтер было не пропускать, а они поперли на него толпой. Удивил меня завод и испугал — корпуса громадные, прокопченные, паровозы пыхтят, и народу — тьма! В цехе, куда мы пришли, гул, стук, пых, гром — ошалеть можно. Мужик тот завел меня в закуток — там старичок сидел, беленький, сухонький, в очках, сказал ему: «Дядя Ваня, принимай ученика, сделай из него шорника». С этого все и началось. На ноги он меня поставил, хоть и безногий я. Сколько повозился!.. Я ведь прятался, нарочно не выходил на работу. Да куда там! Прилепился, как репей, — отыщет и приволокет. Потом я втянулся, оправился, одежду прикупил. И с твоей матерью Федорыч познакомил, ты тогда только ходить начал. Я к тому времени шорничал вовсю — ремни сшивал на станки, обувку рабочую ремонтировал. Когда Нюрка родилась, пришлось уйти в сапожную мастерскую — время посвободней и не надо на верхотуру влезать, трудно ведь мне, от ног ничего не осталось и никакие протезы нельзя носить. А Федорыч... горячий он, но справедливый. Кому же мог я доверить тебя, как не ему?..

Жизнь и творчество В. В. Павчинского неразрывно связаны с Дальним Востоком.В 1959 году в Хабаровске вышел его роман «Пламенем сердца», и после опубликования своего произведения автор продолжал работать над ним. Роман «Орлиное Гнездо» — новое, переработанное издание книги «Пламенем сердца».Тема романа — история «Орлиного Гнезда», города Владивостока, жизнь и борьба дальневосточного рабочего класса. Действие романа охватывает большой промежуток времени, почти столетие: писатель рассказывает о нескольких поколениях рабочей семьи Калитаевых, крестьянской семье Лободы, о семье интеллигентов Изместьевых, о богачах Дерябиных и Шмякиных, о сложных переплетениях их судеб.

В книгу вошли ранее издававшиеся повести Радия Погодина — «Мост», «Боль», «Дверь». Статья о творчестве Радия Погодина написана кандидатом филологических наук Игорем Смольниковым.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сергей Федорович Буданцев (1896–1939) — советский писатель, автор нескольких сборников рассказов, повестей и пьес. Репрессирован в 1939 году.Предлагаемый роман «Саранча» — остросюжетное произведение о событиях в Средней Азии.В сборник входят также рассказы С. Буданцева о Востоке — «Форпост Индии», «Лунный месяц Рамазан», «Жена»; о работе угрозыска — «Таракан», «Неравный брак»; о героях Гражданской войны — «Школа мужественных», «Боевая подруга».
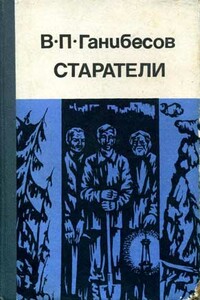
Впервые почувствовать себя на писательском поприще Василий Ганибесов смог во время службы в Советской Армии. Именно армия сделала его принципиальным коммунистом, в армии он стал и профессиональным писателем. Годы работы в Ленинградско-Балтийском отделении литературного объединения писателей Красной Армии и Флота, сотрудничество с журналом «Залп», сама воинская служба, а также определённое дыхание эпохи предвоенного десятилетия наложили отпечаток на творчество писателя, в частности, на его повесть «Эскадрон комиссаров», которая была издана в 1931 году и вошла в советскую литературу как живая страница истории Советской Армии начала 30-х годов.Как и другие военные писатели, Василий Петрович Ганибесов старался рассказать в своих ранних повестях и очерках о службе бойцов и командиров в мирное время, об их боевой учёбе, идейном росте, политической закалке и активном, деятельном участии в жизни страны.Как секретарь партячейки Василий Ганибесов постоянно заботился о идейно-политическом и творческом росте своих товарищей по перу: считал необходимым поднять теоретическую подготовку всех писателей Красной Армии и Флота, организовать их профессиональную учёбу, систематически проводить дискуссии, литературные диспуты, создавать даже специальные курсы военных литераторов и широко практиковать творческие отпуска для авторов военной тематики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.