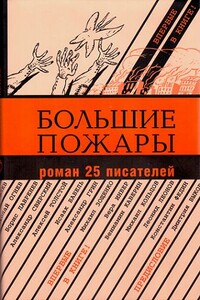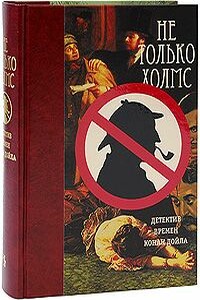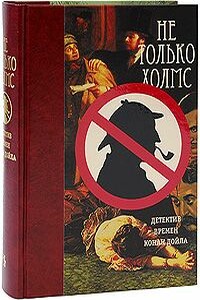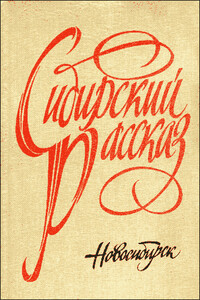I
Михаил Крейслер вместе с женой и дочерью вернулся в Россию после пятилетнего прозябания в Персии — летом тысяча девятьсот двадцать первого года. Грузовой пароход, только что получивший имя одного из двадцати шести бакинских комиссаров, взял в Энзели рис и кишмиш, зашел в Астару за рыбой и икрой, в Ленкорань за пшеницей и кукурузой; погрузка производилась медленно, неряшливо, и «Осепян» поздней ночью вошел в гавань, опоздав на сутки с лишком, спасаясь к тому же от засвежевшего ветра. Михаил Михайлович стоял среди узлов и пакетов на носу и едва не заплакал: огромный город угадывался по россыпи электрических огней, фонари пристаней ровной гирляндой наметили очертания порта и были зажжены, казалось, с безудержной щедростью и тщеславием. Сзади рушился ветер. Грохот замыкал черную бездну моря и неба. Там словно заново начинали мироздание. Успело несколько раз качнуть по борту, но уже заиграла мелкая дегтярная рябь гавани, и Крейслер сказал:
— В большие забияки я не лезу. Но за себя постоим, Таня, и если здесь начинают новую жизнь…
Не окончил, его заглушил мощный голос сирены — музыкальный, сотрясший весь пароход. Эти свет и звуки, которыми перекликалась цивилизация, представились нашим провинциалам необыкновенно расточительны.
— И воздух другой. Смотри, как потянуло асфальтом, нефтью, — заметила Татьяна Александровна, наклоняясь к спавшей на хурджимах дочери поправить на ней платочек. — Как это у нас хватило терпения прожить столько в захолустье, совсем одичали.
Столб света, казалось, с шумом упал ей на лицо. Прожектор военного судна нащупал их. Они вздрогнули от этой бдительности. Михаил Михайлович сдернул пробковый шлем, помахал им. Высокий, широкоплечий, с красным от загара, теперь в неестественном освещении коричневым лицом, он словно смутил своей радостью ослепительный круг близкого прожектора, заставил погаснуть.
К ним подошел с портпледом в руках веселый спутник: приятель еще по Земсоюзу экспедиционного корпуса генерала Баратова Арташес Григорьянц — маленький в мелких завитках волос брюнет, похожий на престарелого пуделя. Он вынырнул из полутьмы палубы так же неожиданно, как неделю тому назад окликнул Крейслера в аптекарском магазине в Реште. Молодая женщина посмотрела на него со смутной завистью — у него был удобный, необременительный, элегантный багаж; ей подумалось, что только такие оборотистые, хитрые люди ловко устраиваются на новых местах, а им, с их узлами, придется трудно.
— Волнуетесь? — спросил Григорьянц, как бы угадывая ее мысли. — Только не ругайте меня, вашего проводника…
— Боюсь вашей бестолковщины, — вмешался Крейслер. — И голодать не сладко, если не удастся устроиться. А у меня больная жена, беременные дети, — неуклюже сострил он. — Кому я нужен, недоучившийся агроном, бывший смотритель участка на Энзели-Тегеранской шоссейной дороге?
— Ничего, помогу. Тряхнем связями.
Григорьянц покровительствовал с удовольствием. Когда-то в Земсоюзе Крейслер неизменно занимал лучшие должности, а при Керенском был даже прямым начальником Григорьянца. Немудрено, что появились нотки бахвальства в голосе Арташеса. Товаровед-текстильщик, он служил всю гражданскую войну в отделе здравоохранения и теперь ездил в Решт закупать хинин. И хоть, по его словам, он совершил удачную сделку, вся эта неразбериха пугала Михаила Михайловича. Мариночка проснулась от разговоров, от гудков, от беспорядочных поворотов парохода, заплакала, рассеяла размышления и втолкнула в суету несвоевременного прибытия.
Пристань грузовая, маленькая, полутемная; только издали представлялось освещение обильным, — к сходням добрались с трудом из-за трюмных пассажиров, персов, ожесточённо ринувшихся, галдевших и надышавших перегаром чеснока. Кто-то требовал билеты и пропуска, потом погнали всех на таможенный досмотр в каменный сарай (Григорьянц махнул ручкой и был таков). Сонные дежурные чиновники рыли багаж целую ночь. К утру, смертельно усталые, путешественники очутились на выщербленных мостовых города, спавшего в сером тумане неулегшейся пыли. Сизое море неодобрительно косилось из-за облупленных построек, пахнувших испражнениями и смолеными канатами, на содранные вывески, грязные фасады, кучи мусора, не убиравшиеся месяцами, на развалины, окруженные остатками заборов, на груды щебня и кирпича, словно тут начинали строиться, да что-то помешало, и покинули в беспорядке.
— Какой был приличный, оживленный город, — сказал Михаил Михайлович. — А теперь… и ни одного фаэтона. Куда же мы денемся с барахлом?
Отпущенные из таможни персы расходились по трущобам, о которых их оповестили земляки. Крейслер нанял двоих нести вещи и двинулся искать гостиницу, адрес которой сообщил Григорьянц. Но это оказался не то дом советов, не то общежитие профсоюзов, приезжающих туда не пускали. Разбуженный швейцар долго ругался по-тюркски и по-русски; амбалы требовали прибавки к уговоренным четырем кранам; Мариночка кашляла, потела, пищала; жена побледнела, посерела. Радостное волнение, охватившее Крейслера вечером, переродилось и влилось в нервы зудом раздражения. От желания лечь в постель завыл бы, как воет бездомный пес. Подымались в богатые, когда-то торговые кварталы города. И здесь особенно отвратительно в свете утра поражало запустенье. Сквозь полусон, утомление Крейслер со вниманием наблюдал город революции, не похожий ни на то, каким он являлся воображению, ни на то, каким его описывали. В особенности его изумляло невероятное количество расклеенной по стенам, по заборам бумаги. Афиши, анонсы, приказы, распоряжения, объявления, плакаты, даже газеты и иллюстрированные приложения скрывали заборы, стены, целые фасады; их площадь измерялась десятинами-, они сопровождались угрозами тому, кто попробует сорвать или заклеить их. Предутренний ветер мел, как хлопья, клочки бумажек с грозными словами новых установлений и законов. Удивляло и безлюдье улиц, — в старое время такой город не затихал более, чем на два-три часа в сутки, да и то не так мертвенно. Огромные крысы бегали в окнах «продуктовых распределителей».