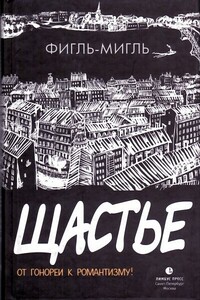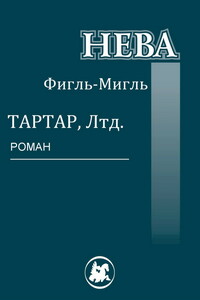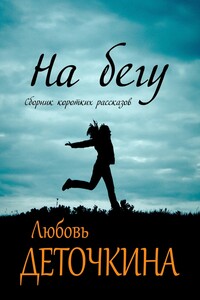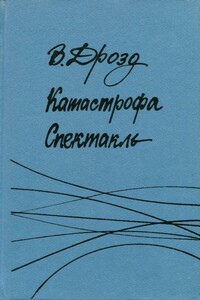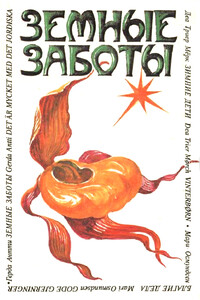Не странно ли, что Уайльд написал “Кентервильское привидение”, протагонист которого умер смертью Уголино. (“В стену было вмуровано огромное железное кольцо, а к нему прикован гигантский скелет, который во весь рост распростерся на каменном полу. Казалось, он тянется длинными костлявыми пальцами к старинному кувшину и блюду, поставленным так, чтобы он не смог их достать”.) И мне жаль, что потом Уайльду пришлось писать “De profundis”.
Да… так что же я хотел сказать? Я, наверное, хотел сказать, что закон законом, а звездное небо над головой тоже неплохо иметь. Вспоминай не вспоминай, очевидно одно: кто-то устоял, кто-то сломался, кто-то подарил миру шедевры, никто не остался прежним. Даже Щедрин сообразил: уважаю, говорит, искренность, но не люблю костров и пыток, которыми она сопровождается. И, дескать, не надо окружать пытку ореолом величия.
И не думайте, что в виде Альбера Камю я вытащил на свет седую древность. Просто с Камю (пусть не для печати, но все же писавшем о низменности желания “увидеть, как гибнет тот, кто смеет сопротивляться силе, растоптавшей нас самих”) иметь дело приятнее и как-то чище, чем с компатриотами, совсем недавно совершавшими в виду каземата очень похожие выкрутасы. В каземате, правда, соизмерял себя с простыми людьми не Оскар Уайльд, а всего лишь Э. Лимонов — нет у нас Оскара Уайльда, чтобы все сделать по-настоящему красиво.
Но у нас нет и Камю, который нашел в себе силы остаться в рамках приличий и нигде не брякнул ерунды типа “Dura lex, sed lex”. Ерунды на текущий момент не столь смешной, сколь гнусной.
P. S. “Сеньор арестант, — сказал тюремщик, — не надо сокрушаться. К чему принимать так близко к сердцу невзгоды жизни? Вы еще молоды; пройдут мрачные дни, и наступят ясные. А в ожидании их кушайте на здоровье хлеб-соль его величества”.
Опубликовано в журнале:
«Нева» 2005, №4