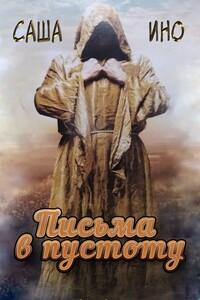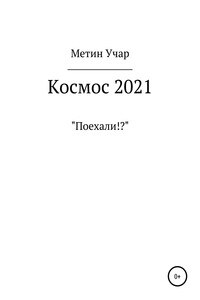Самоубийство негодует. Брови сдвинуты, черты лица заостряются, уголки губ резко опущены, в черных глазах святое негодование. Я фыркаю, зная уже заранее, что будет дальше.
Но что может простая голова, кроме извержения словесных лезвий? Пожалуй, громко смеяться. Однако на сей раз я обхожусь лишь саркастичной улыбкой, пока лечу прочь, отфутболенный этим ревнивым и жадным до признания мальчишкой.
* * *
Я падаю в лоно матери Земли, прямо носом в снег. Я бы выругался, но пушистое белое месиво набивается в рот, я напоминаю себе тряпичную куклу, порванную и распетрушенную до состояния, когда ватная начинка лезет изо всех отверстий.
Приходится немного напрягаться, менять углы реальности, двигать действительность и переворачивать линию горизонта. И вот… Я уже лежу лицом наверх, глаза застилает пелена из падающего снега. Скоро он меня засыплет, но это будет вовсе не плохо.
Глупое Самоубийство думало мне отомстить, но, возможно, именно в мире людей, здесь на равнине, покрытой снегом и редкими черными голыми деревьями, я смогу обрести покой, в одиночестве и тишине медленно разрастаясь и пуская корни своего нового тела. Лишь бы никто не помешал… Надоели эти вечные назойливые существа, я так устал от их бесконечной глупости, с которой не может соперничать даже сотворение мира.
Но разве такое бывает? Стоит только подумать, помечтать, как на тебе, твои планы сорваны насмешницей Судьбой. Вредная и ироничная старуха, хоть и не противится обычно воле человеческой, дает себя переиграть, но нередко можно ждать от нее и сюрпризов — точных, как выстрел, хлестких, как пощечина цыганки, насмешливых, как… Судьба.
Сквозь пелену белой мглы я четко услышал скрипящий шум шагов. Слишком легкий и невесомый, чтобы принадлежать мужчине, слишком ровный, чтобы стать поступью недевственной женщины, давно познавшей радости от вторжений в свою нежную плоть.
Ребенок… Или подросток. На меня набрело дитя человеческое. Я устало выдохнул… Ледяной воздух поднялся из перерубленной трахеи и вырвался изо рта, не успевая согреться и превратиться в пар. Зачем отрубленная голова дышит? Зачем я делаю это? Дышать — просто привычка.
Шаги приближаются, они идут прямо на меня — какая жалость, черт… Скрип слышится все сильнее, я успеваю лишь презрительно изогнуть губы, как шаги обрываются, снег сминается от падения тела на колени. Я слышу тихий всхлип удивления вперемешку с ужасом. Последняя капля — и я все-таки решился открыть глаза, хоть и весьма нехотя.
Девочка-подросток. Она сидела на снегу и, распахнув от ужаса глаза цвета лесного ореха, плакала. Тихо и беззвучно, просто истекала ручьями слез, больно кусающих щеки поцелуями зимней стужи.
Но она была совсем раздета. Тонкое льняное платье больше походило на ткань мешка, где наспех сделали разрезы для рук и головы. Достаточно куцая одежда для такой, прямо скажем, не летней погоды.
Маленькую голову с впалыми щеками страдалицы обрамляют светлые пряди волос, грубо и спешно выстриженные, а кажется просто назидательно обрубленные и теперь представляющие собой лишь подобие прически.
Вся ее фигурка — точеное сосредоточение нищеты и страдания. Миниатюрность в болезненной худобе от частого недоедания, белизна кожи нарушена следами от побоев и лентами рассечений.
Ей страшно, холодно и одиноко. Босые ноги скручивает мороз в окоченении лиловых пальцев. Наглядная иллюстрация — живая картина людского равнодушия и злости. Немыслимо! Хотя отрубленной голове стоило бы помолчать…. Мое существование куда более немыслимо.
— Голова, — пискнула Девочка, поднимая к своему лицу кулачки, будто закрываясь от неведомой опасности.
— Голова, — запросто согласился я.
Она вскрикнула и отпрыгнула на метр, шлепнувшись на задницу, и невольно широко расставив ноги. Я отвел взгляд, давая понять, что смотреть на ее промерзшие прелести, не прикрытые элементарно даже тонкой тканью белья, я не намерен. Она торопливо и смущенно прикрылась, краснея и согреваясь от этого, потом вновь села на колени и подползла чуть ближе.
— Живой… — прошептала девочка, по-детски округляя глаза, будто увидела чудо.
— Живой, живой, — подтвердил я, смотря на разворачивавшуюся картину восторга глазами постоянного, привыкшего к подобному, зрителя, — не бойся, я не смогу тебя обидеть… Без рук и ног это крайне затруднительно, сама понимаешь.
Но она не слышит меня. Все еще объятая восторгом, опасливо тянет ко мне свою крохотную ручку с тонкими дрожащими пальцами и быстрым мимолетным движением касается моей щеки.
Тепло. Я на мгновение прикрываю глаза. Почему у побитых, израненных людьми существ всегда столько тепла? Мне не понять.
— Теплая, — произносит девочка. Она рассматривает свой палец, будто после прикосновения к моей щеке на нем осталась драгоценная золотая пыль. Нет ее там, но девочка улыбается. Вымученная страдальческая улыбка, хотя даже при этом необъяснимо счастливая. Неужели, она всерьез обрадовалась мне, как чуду? М-да…
— Разумеется, теплый, — я вывожу ее из придурковатого оцепенения немного резким тоном, — Я же живой, все живое теплое.
Она вздрагивает и опускает голову, невольно подбирая под себя ноги. Ее губы шепчут сбивчивые слова признания: