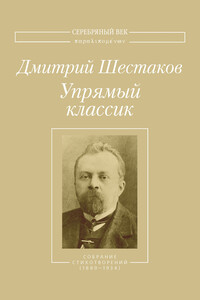Поющих и глаголющих, взывая,
Имели и имеют Божий дар:
Единым словом всколыхнуть глубины
И человека в человеке разбудить.
Увы, не могут этого вершить
Ни острый галльский смысл.
Ни сумрачный германский гений.
И понял я:
Как в раковине на прибрежьи
Гудит глубинным шумом океан,
Так в них, простых и глиняных сосудах,
Звучит душа великого народа,
Которого взыскал Господь
И мукой, и прозреньем искупленья.
Вот и было видение в тонце сне
К истощению времени, грешному, мне.
Я был как бы сугубый, двойной естеством:
Каждодневный один, и другой – невесом.
Но, как эхо, из дальних скитов и могил
Он настойчиво верой отцов говорил.
Над землею болотной кромешная тьма
Налегла, укрепляясь собою сама.
Но еще и еще, точно пламя свечи,
Там и сям возгорались сиянья в ночи.
И, приблизясь, узрел я, что мерзость и тля,
Под ногами святых простиралась земля.
Смрады тленья она источала и хлад,
И гнездился в ней жабень и всяческий гад.
Но святые светились, не видя меня,
Точно воск, зажелтев от лица огня.
Точно воинством ратным из зерен взошли
И стояли на страже гиблой земли.
И в виденьи открылось, что молится рать,
Чтобы этой земле – просиять.
С холодных стран, с Карелии, от Колы,
В промерзших елях голосит норд-ост.
Темно. Под звездным Северным Престолом
По небу перекинут Млечный Мост.
И я в себя вбираю жуть просторов.
И путь в снегах, и древний запах хвой.
От Чуди белой до земли поморов
Ты слышишь ли ночной гудящий вой?
И стынут пальцы в теплых рукавицах,
И холодом проходит по спине.
И пращуров обветренные лица
Со мной идут – невидимо – во мне.
Когда в мятель предсмертная усталость
Клонила пращуров моих ко сну,
Медведица большая, им казалось,
Над лесом воем будит тишину.
Не заходя, алмазной колесницей
Семь звезд плывут, – как северным гербом.
Века здесь шли кровавой вереницей.
А кровь роднит. Не забывай о том.
Малые черные люди
Жили в пещерах. Сильней
Кожу их, чуяли, студит
Ветер с Полночных Огней.
Прямо в закатное море
С шумом бежала река.
Люди со страхом и горем
Видели: издалека,
Чаще и чаще разливы,
Дико стремила вода,
Переливаясь бурливо,
Глыбы зеленого льда.
Малые черные люди
Помнят их первый приход:
Скрежет, как острою грудью
Челн продирался сквозь лед.
Враг ли неведомый, друг ли?
Вышли из дымных пещер…
Запад горел, точно угли.
Север, как камень, был сер.
Были обветрены лица
Белых высоких людей
В шкурах полярной лисицы,
Зверя Холодных Полей.
Молча смотрели на дали
Зеленоватые вод.
В страшных глазах увидали
Черные северный лед.
Лижет базальты волна:
Скудная, жесткая пища.
Мокнет годами гнилого челна
Черное, хрупкое днище.
Так, как при викингах. Тут
Нечего ждать перемены:
Хмурые сосны по скалам растут,
Светится в сумерках пена.
Только холодная сталь
Серых равнин океана.
Только клубится ненастная даль,
Родина зябких туманов.
Изредка гонят их прочь
Жгучие струи норд-оста:
Пламенем бледным вздымается в ночь
Смерть с Ледяного Погоста.
Все было просто: сосны и брусника
С фарфором пыльным ягоды сырой.
Покорно в серых паутинах никло
Еловой лапы жесткое ребро.
И надо всем – неторопливый шорох,
Всю жизнь потом нам слышный шепот хвой.
Смолистый, скользкий и сухой, как порох,
Ковер иголок под твоей ногой.
В закате солнце медленно сгорало.
Был вечер тих, по-северному прост, —
И в куполе вечернего опала
Всё те же семь привычных с детства звезд
По лесным низам захолодело,
По болотам задымилось белым,
От корней свежей запахло мхом
И в последнем солнце по овражным склоним
Папоротник вспыхнул пламенем зеленым
В буреломе хрупком, сером и сухом.
По траве, еще никем не мятой,
По опушкам с клевером и мятой
Догонял нас призрак голосов.
Мы не замечали ни грибной прохлады,
Ни привычной с детства бороной отрады,
Тишины заказной северных лесов
Мы бежали – гибель нас искала,
Торопилась, путь пересекала,
Реяла вечернею совой,
И за нами солнце низкое бежало,
По лесным верхушкам плыло и ныряло,
Продираясь в чащах красной головой.
Весь день звенят ленивыми альтами
В долинах свежих погремки коров.
Уютно пахнет молоком, хлевами,
Дымками буковых тяжелых дров.
Здесь в городках всё каменно и чисто,
И крепок их порядок вековой:
Неодобрительно на век неистовств
Здесь бюргеры качают головой.
Я, путник, проходил по их тропинкам.
Ел гостем хлеб их. Слышал их «Gruss Gott».
Подслушивал смущенное, с заминкой:
– «Чужой? Ну, что ж? Ведь скоро он уйдет…»
Я шел на юг. Всё круче были склоны.
И в первый раз я, северный изгой,
Увидел полный облик Скорпиона
И жало, вознесенное дугой.
В декабре Адриатика хмура:
Мутной зеленью ходит волна
И на берег, скалистый и бурый,
Лепит камни морские со дна.
Пальмам холодно. Как жестяные,
Порыжели концы опахал.
Всё под серое: камни стенные,
И оливы, и старый портал.
В этом гужом, забытом соборе
Он почиет в литом серебре.
Но когда в ненадежное море
Ветхий парус идет в декабре,
То Джованни, Джузеппе за молом
Шепчут все-таки несколько слов:
Бережет византийский Никола
Черномазых чужих рыбаков.
Пустыня, плоская, как блюдо,
И небо пыльной синевы.
Как шкура с падали верблюда,
Песок и пежины травы.
Здесь каждый день одно и то же:
Встает струящейся стеной