Пандора - [121]
Больше она не в силах выдержать.
– Вы собирались убить меня? – шепчет Дора с мукой в голосе.
Иезекия склоняет голову.
– Честно? Нет. Я даже не понял, что ты тоже была там, в котловане. Очень жаль, что Гамильтону удалось тебя откопать, но, увы, что сделано, то сделано. И с тех пор ты стала для меня обузой.
– Тогда зачем оставлять меня в живых?
За ее спиной снова раздается приглушенный всхлип.
– О, Дора! – насмешливо восклицает Иезекия. Он оборачивается, берет свечу в подсвечнике-блюдце. – В жизни я совершил много грехов, но хладнокровно убить ребенка – это не по мне. Кроме того, – тут его глаза хищно прищуриваются, – ты же все равно ничего не знала. Да и не смогла бы узнать о существовании сокровища – ведь я тебе о нем только сейчас сообщил. Так что убивать тебя не имело смысла. В конце концов, ты была мне полезна во многом другом. – Он вздергивает подбородок. – Пойми, Дора, у тебя нет возможности доказать хоть что-то из того, о чем я тебе только что рассказал.
Очень медленно Иезекия вынимает руку из кармана. Он сжимает сложенный клочок бумаги с оторванным краем. Бумага сильно измялась и пожелтела от времени, но Дора знает, что это такое.
– Записка, – бормочет она.
Иезекия смотрит на сложенный обрывок бумаги, проводит грязным пальцем по пожелтевшему краю.
– «Настоящим доверяем сэру Уильяму Гамильтону действовать в интересах нашей дочери Пандоры Блейк…» – читает он, потом разворачивает записку и снова бросает взгляд на племянницу. – Скажи мне, Дора, а что за черно-золотой ключ?
То, с каким нажимом он произносит последние слова, немного сбивает Дору с толку. Она недоуменно смотрит на него.
– Какой черно-золотой ключ?
– Ты слышала, о чем я спросил!
Дора качает головой.
– Я не знаю. Замок в шкафу черно-золотой…
– Это не то. Я уже пробовал!
Дора ничего не говорит. Иезекия долго буравит ее взглядом.
– Эта записка написана для тебя. Хелен пишет, чтобы ты воспользовалась черно-золотым ключом. Она не сомневалась, ты поймешь, что она имела в виду.
Сердце гулко колотится в груди, Дора не понимает, чего он от нее добивается. Она оглядывается назад, на безжалостно связанную Лотти, потом смотрит на огромный пифос, на разбросанные по полу каменные обломки и мотает головой в полном замешательстве.
– Я не понимаю, – шепотом отвечает она.
Иезекия все так же пожирает ее глазами. Потом воздевает руку и держит перед своим лицом записку, словно молитвенник.
– Ладно. Если я не могу завладеть их сокровищем, то и ты не сможешь. В конце концов, у меня есть пифос. Представляешь, сколько денег я выручу за него!
Иезекия ухмыляется – от этой самодовольной ухмылки Дору подташнивает, но она не сразу понимает, что он намерен сделать. В следующее мгновение он хватает свечу и приближает пламя к уголку записки…
– Нет!
Огонь быстро охватывает бумагу, и Иезекия, наблюдая, как обугливается горящая записка, разражается маниакальным хохотом. А затем его смех становится все пронзительнее и пронзительнее, и Дора с ужасом осознает, что Иезекия уже не смеется, а визжит.
Пламя с невероятной скоростью взбегает по его рукаву. Огонь охватывает грудь, змеей скользит вниз по ногам. Иезекия в отчаянии раздирает на груди рубаху, но его пальцы и ладони тотчас становятся объяты огнем, от которого он не может найти спасения. Похоже, он осознает тщетность попыток сбить пламя, пускается бежать, но его увечная нога не позволяет ему сделать даже пары шагов, а когда у него подгибаются колени и он тяжело валится на пол, Дора смотрит на него не отводя глаз и, кажется, не мигая. Кожа Иезекии покрывается волдырями, а запах горелой плоти столь едок, что Дора не в силах сдержать рвоту. От его обожженного тела поднимаются клубы дыма, и, когда языки пламени уже облизывают лицо Иезекии, он протягивает к ней опаленную трясущуюся руку. На мгновение их взгляды встречаются, но тут пламя охватывает его целиком, Иезекия дико вопит и начинает бешено кружиться на месте, превратившись в огненный сноп.
За спиной Дора слышит приглушенные рыдания Лотти. Придя в себя, она отворачивается от кошмарного зрелища, спешит к лежащей на полу служанке и вытаскивает у нее изо рта кляп.
– Мисси!
– Тихо, Лотти, я знаю. Нам надо отсюда выбираться.
– Нет! – задыхаясь, восклицает служанка, когда Дора развязывает веревки у нее на ногах. – Ваш молодой человек! Он в несгораемом шкафу!
Дора застывает. Позади нее Иезекия уже больше не вопит. Слышится лишь треск и шипение угасающего огня, да в воздухе витает запах горелой плоти и едкий дым.
– Что вы такое говорите?
– Нет времени объяснять! – вскрикивает Лотти. – Смотрите!
И Дора смотрит: деревянные перила уже охвачены огнем.
– Theé mou![46] – Дрожащими пальцами Дора снимает веревки с запястий Лотти. – Ключ, Лотти! Где ключ?
– Торчит в замке!
Ее сердце бьется так, словно хочет выскочить из груди. Дора кидается к несгораемому шкафу Брама, поворачивает ключ, и из шкафа прямо ей на руки вываливается обмякший Эдвард.
– Эдвард, какой ужас! Я не знала! Я…
Дора старается удержать его, но Эдвард такой тяжеленный, что она не в силах сделать это в одиночку.
– Лотти! – кричит Дора, стараясь перекрыть вой разгорающегося пламени, но та уже подхватила Эдварда с другой стороны.

Эта история произошла в реальности. Её персонажи: пират-гуманист, фашист-пацифист, пылесосный император, консультант по чёрной магии, социологи-террористы, прокуроры-революционеры, нью-йоркские гангстеры, советские партизаны, сицилийские мафиози, американские шпионы, швейцарские банкиры, ватиканские кардиналы, тысяча живых масонов, два мёртвых комиссара Каттани, один настоящий дон Корлеоне и все-все-все остальные — не являются плодом авторского вымысла. Это — история Италии.
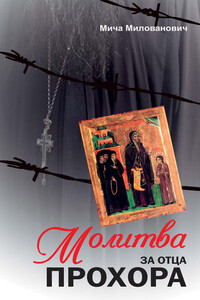
Это исповедь умирающего священника – отца Прохора, жизнь которого наполнена трагическими событиями. Искренне веря в Бога, он помогал людям, строил церковь, вместе с сербскими крестьянами делил радости и беды трудного XX века. Главными испытаниями его жизни стали страдания в концлагерях во время Первой и Второй мировых войн, в тюрьме в послевоенной Югославии. Хотя книга отображает трудную жизнь сербского народа на протяжении ста лет вплоть до сегодняшнего дня, она наполнена оптимизмом, верой в добро и в силу духа Человека.

В книгу вошли два романа ленинградского прозаика В. Бакинского. «История четырех братьев» охватывает пятилетие с 1916 по 1921 год. Главная тема — становление личности четырех мальчиков из бедной пролетарской семьи в период революции и гражданской войны в Поволжье. Важный мотив этого произведения — история любви Ильи Гуляева и Верочки, дочери учителя. Роман «Годы сомнений и страстей» посвящен кавказскому периоду жизни Л. Н. Толстого (1851—1853 гг.). На Кавказе Толстой добивается зачисления на военную службу, принимает участие в зимних походах русской армии.

В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.

Действие романа охватывает период с начала 1830-х годов до начала XX века. В центре – судьба вымышленного французского историка, приблизившегося больше, чем другие его современники, к идее истории как реконструкции прошлого, а не как описания событий. Главный герой, Фредерик Декарт, потомок гугенотов из Ла-Рошели и волей случая однофамилец великого французского философа, с юности мечтает быть только ученым. Сосредоточившись на этой цели, он делает успешную научную карьеру. Но затем он оказывается втянут в события политической и общественной жизни Франции.
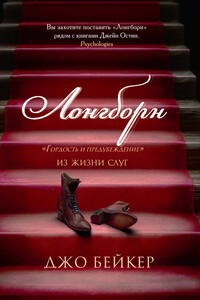
Герои этой книги живут в одном доме с героями «Гордости и предубеждения». Но не на верхних, а на нижнем этаже – «под лестницей», как говорили в старой доброй Англии. Это те, кто упоминается у Джейн Остин лишь мельком, в основном оставаясь «за кулисами». Те, кто готовит, стирает, убирает – прислуживает семейству Беннетов и работает в поместье Лонгборн.Жизнь прислуги подчинена строгому распорядку – поместье большое, дел всегда невпроворот, к вечеру все валятся с ног от усталости. Но молодость есть молодость.