Падение Херсонеса - [21]
— Святой отец, радоваться мне или печалиться? — спросила она. В зеленых глазах, готовых к смирению, недоумение.
— Князь спит? — спросил митрополит. Холодный комок сжал сердце. Варвар! Какой красотой овладел.
— Князя нет, — ответила Порфирогенита.
Антонина вся обмерла. Хозяева делают, что хотят. Слуги всегда виноваты.
— Как — нет? — громыхнул митрополит, и жилой дом дрогнул от его баса, как будто он с амвона громыхнул, начиная службу.
Порфирогенита подняла глаза к его лицу. И опять в глазах смирение и недоумение. Готовность и к радости, и к неизвестности.
Двери в нижние покои были распахнуты. Приметливый глаз митрополита увидел серебряный тазик для омывания ног в углу. Тот и с вечера был там. Лежал нетронутый. Там был и топчан, застланный постелью, не разбиравшийся с вечера.
Митрополит выбежал во двор.
Во дворе ни коня князя, ни отрока, так горько плакавшего.
Выбежал со двора. Стражники выпустили его, не препятствуя. Придержали собак. Проводили взглядом.
Пресвитера Анастаса митрополит застал за домашними заботами.
— Где князь? Говори, Иуда! Говори, отступник! Говори!
Пресвитер вскинулся остренько. События последних дней иссушили его. Он похудел так, что только кожа обтягивала кости черепа. Да глаза горели то ли огнем фанатика, то ли огнем игрока, жизнь свою бросившего на кон.
— А где князь? — повторил Анастас, спрашивая в свою очередь митрополита.
— На охоте? — в свой черед громыхнул митрополит.
Сколько унижений терпеть империи? Сколько унижений терпеть василевсам? Сколько унижений терпеть Порфирогените?
Рожденная в Священном дворце, унаследовавшая кровь Константина Багрянородного, Порфирогенита не нужна варвару?
— На охоте? — переспросил с сомнением Анастас.
И покачал головой. Не так мелок Владимир, чтобы в такие дни думать об охоте.
…С вечера князь вошел в покои Порфирогениты. Та встретила его бледная, уставшая с пути. Стояла, опустив глаза. Тени от черных ресниц легли траурной каймой. Христианка, она в душе приняла венец мученичества и терпения.
Князь вошел не один. С воеводой, старым Голубом.
Князь стоял, смотрел на нее и молчал. Потом заговорил, прежде сказав что-то старому воеводе. Видно, приказал переводить.
— Порфирогенита, ты потеряла братьев. Потеряла свой дом… Так ведь и я — ты подумай об этом — много теряю. Была у меня воля. Была жизнь вольная. А вот теперь совсем другую жизнь начинаю… Ты ради Византии вон какой крест на себя берешь. На тебя, девочка, смотреть страшно. Жалко тебя… Да ведь и за мной Русь. По закону правильному жить хочу. Хочу, чтобы Русь сильная была и единая… Тебе смирение вон как трудно дается. В лице ни кровинки. А мне каково смирение на себя принять после воли моей волной?.. Трудна твоя вера. Труден путь к ней. Помогай мне, царевна. Одному мне с собой не совладать.
Сказав все, повернулся и пошел к двери. За ним двинулся старый воевода.
У двери князь остановился. Повернулся. Анна подняла ресницы. Разглядела князя. В чертах лица, в той свободе, какая была в глазах, была уверенность человека, знающего, что такое власть. Волосы, борода, усы непривычно для взгляда гречанки светлы. И все-таки он показался ей красивым.
— Царевна, — сказал князь. В голосе пробивалась просьба. (А мог бы и приказывать). — Я — варвар. Я молюсь идолам. Но вот моя Берегиня. — Он раздвинул ворот рубахи. И вынул маленькую деревянную фигурку, женскую, висевшую на его молодой, круглой шее на шнуре. Улыбнулся. Все тем же мягким голосом проговорил: — Хочешь, будь моей Берегиней, эта меня хорошо берегла. Хочешь, выйди за стены двора. Там много костров. И много ромеев у костров. Брось в огонь.
Вернулся к ней. Вложил в ее руки Берегиню.
Мужчины ушли.
Анна долго стояла, не двигаясь. Чего-то ожидая и сама не зная, чего ждет.
Потом подошла к столу, поближе к огоньку, и начала разглядывать Берегиню. Маленький чурбачок какого-то пахучего русского дерева. Запах был приятен, но незнаком. Головка Берегини, плечи, ручки были выструганы грубовато, ножом. Однако с изяществом и одухотворением. В Берегине вроде был живой дух. Так они и смотрели в глаза друг другу. Берегиня в глаза Порфирогениты. Порфирогенита в глаза Берегине.
За этим делом и застала Антонина, тоже не спавшая, свою госпожу.
Князь же и воевода Голуб, спустившись вниз, встали у окна в темной комнате нижнего этажа. Когда из темноты смотришь во двор, он, освещенный луной и звездами, кажется светлым. Видели все, что происходило во дворе. Видели, как плакал, деля горе с конем, Ростислав. Как метался митрополит, мощный, как стенобитная машина. И от оскорбления за свою Византию, совсем не смиренный…
Опасный…
7
Трое суток митрополит считал и пересчитывал ладьи руссов у причалов порта. И не досчитывался…
А через трое суток в порту опять стало тесно от ладей. Руссы при полном вооружении высаживались, выпрыгивали на причалы, на берег. И разнесся слух:
— Владимир занял Таматарху!
— Как — Таматарху? Быть того не может… — Вскричал митрополит Кирилл.
И устремился к порту.
Руссы уже высадились. Уже поднялись на скальный верх, на главную улицу города.
Народ валил навстречу, — со всех домов, со всех рынков, со всех рабочих мест.
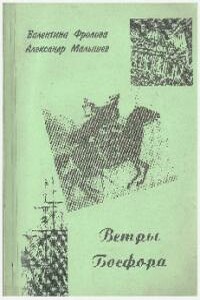
Герой романа “Ветры Босфора” — капитан-лейтенант Казарский, командир прославленного брига “Меркурий”. О Казарском рассказывалось во многих повестях. Бою “Меркурия” с двумя турецкими адмиральскими кораблями посвящены исторические исследования. Но со страниц романа “Ветры Босфора” Казарский предстает перед нами живым человеком, имеющим друзей и врагов, мучимый любовью к женщине, бесстрашный не только перед лицом врагов, но и перед лицом государя-императора, непредсказуемого ни в милостях, ни в проявлении гнева.

О дружбе Диньки, десятилетнего мальчика с биологической станции на Черном море, и Фина, большого океанического дельфина из дикой стаи.

«Севастопольская девчонка» — это повесть о вчерашних школьниках. Героиня повести Женя Серова провалилась на экзаменах в институт. Она идет на стройку, где прорабом ее отец. На эту же стройку приходит бывший десятиклассник Костя, влюбленный в Женю. Женя сталкивается на стройке и с людьми настоящими, и со шкурниками. Нелегко дается ей опыт жизни…Художник Т. Кузнецова.
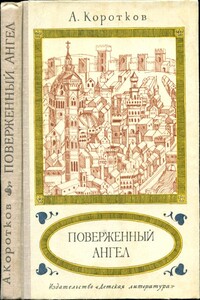
В романе рассказывается о восстании беднейших горожан и ремесленников средневековой Италии, которое вошло в историю под названием «Восстание чомпи».

Книга «Приключения лесной ведьмочки Шиши» — результат социального проекта газеты «Вечерняя Москва», издательства АСТ и компании «Книга по требованию». Сказку написала сибирячка (г. Новокузнецк) Тамара Черемнова — инвалид детства с тяжелой формой ДЦП: парализованы руки и ноги, сильно нарушена координация движений, затруднена речь. И при этом светлый ум, умение радоваться жизни и доброе отношение к людям. Тамара не захотела мириться с жалкой участью пассивной инвалидки-колясочницы — и начала писать рассказы, очерки, сказки, сразу проявив свой яркий литературный талант.
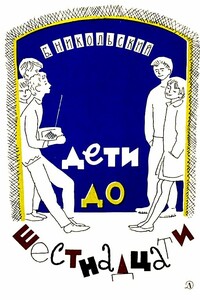
Герои этой повести - обыкновенные городские ребята По вечерам они собираются во дворе, слушают «Спидолу», спорят о футболе и боксе. Иногда все вместе отправляются в кино или на стадион. Короче говоря, на первый взгляд кажется, что жизнь их идет без особенных происшествий. Но ребята взрослеют и все чаще задумываются над жизненными вопросами, все внимательнее присматриваются к жизни взрослых. И отношения их с родителями становятся более сложными, а порой и нелегкими… Художник Леонтий Филиппович Селизаров.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть о египетском поэте и борце за свободу и независимость своей родины — Абд ар-Рахмаие аль-Хамиси.
