Новолунье - [56]
— А овцы целы?
— Овцы-то целы. Мойнах спас, вовремя зверя учуял. А то бы она там наделала делов. У них ведь, у волков-то, какая повадка: унесет одного, а полсотни перережет.
— Давно это было?
— Да вот только что. Пельмени остыть не успели, Садись, ешь, чего уж теперь.
Я сел за стол, подумал и спросил:
— А я долго спал?
— Минут десять.
Утром я проснулся, вопреки обычаю, поздновато. Уже светало. Тетки Серафимы в избушке не было. Отец сидел на корточках у плиты, у открытой дверцы, курил, задумчиво глядел на огонь. Он был в телогрейке, подпоясанной старым ремнем. На табуретке лежала его большая волчья шапка. Доха висела на маральих рогах у двери.
Я надел штаны, натянул рубаху и сунул ноги в новые валенки. Но тут же вспомнил про сушившиеся у плиты портянки (наверно, тетка Серафима догадалась развесить) и сбросил валенки. Босиком прошел к плите по колыхнувшимся половицам и стал мять в ладонях покоробившиеся от жара портянки. Отец мельком глянул на меня, ничего не сказал, снова уставился на огонь.
Я обертывал ноги портянками и вспоминал деда. Если бы тот был жив и попал на заимку, наверняка отцу досталось бы на орехи за половицы. Дома половицы так подогнаны одна к другой, что иголка не упадет в подполье. А здесь холодом несет, босиком ходить — насморк схватишь.
«Эх, — сказал бы дед, качаясь на половицах, — живут — не жильцы, а умрут — не покойники. Только небо коптят».
Взял бы дед топор и, ползая на коленях по полу, стал бы пригонять половицы. А отец, смущенно улыбаясь, курил бы папиросу за папиросой и молчал. Или говорил бы что-нибудь такое:
«Зря ты затеял... И так бы прожили. Жили тут люди двадцать лет, и мы бы двадцать прожили бы. Не дом ведь».
Я хорошо представлял себе этот воображаемый разговор. Изучил их обоих — и деда и отца.
Дед, не поднимая головы, спросил бы с издевкой:
«А ты дома-то сколь дней в году живешь?»
«Ну дак что же? — вроде бы рассердится отец, — Это ни о чем не говорит еще».
Дед на это сразу же ответит, как обрежет:
«У кого понятье есть, тому говорит».
«Что говорит?»
«А то, что, где человек живет, где работает, там и дом. Если, понятное дело, человеком себя считает».
Это, уж конечно, через край. Отец хлопнул бы дверью, чтобы через десять минут снова войти как ни в чем не бывало и приняться помогать старику.
Да, все было бы так. И еще я думаю о том, что если бы дед увидел, как я сунул ноги в валенки без портянок, то и мне бы досталось не меньше, чем отцу. Еще когда жил у отца с матерью, я никогда не обувался в валенки с портянками. А дед меня сразу же стал отучать от этой, по его словам, «дурной привычки».
«Почему дурной? Кто сказал?» — возмущался я сперва.
«Я говорю...» — отвечал дед, и я умолкал, не найдя сразу ответа.
Потом начинал отстаивать свое «право» обувать валенки на босу ногу.
«Ну, хорошо, — рассудительно говорил я, — если, скажем, старые валенки носить — тогда я не спорю. Так теплее. А у меня ведь новые. В них и так жарко».
«Вот потому-то и надо портянки надевать. Они пот впитывают, и валенки долго остаются как новые. А так ты их за месяц проскипидаришь, они холодней старых будут. Да и нога в портянке здоровее».
«Ха! — усмехался я. — Я от рождения не то что валенки, а и сапоги на босу ногу носил. А ничего, как была нога, так и осталась. Что ей сдеется? Ни отец, ни мать сроду мне ничего не говорили».
«Вот потому-то и будешь жить ты теперь у меня», — заключал беседу дед.
Обулся я наконец и выглянул в окно. Серафима, распахнув ворота денника, большими навильниками носила сено из ближнего сенника. Я пошел в угол, чтобы надеть полушубок.
Отец поворошил охваченные пламенем поленья, раздвинул их и попытался втиснуть еще одно. Он о чем-то мучительно думал и возню с поленьями затеял без надобности. Туго затягивая полушубок красной опояской, я сказал:
— Зачем кладешь? И так вон как пластает.
Отец так и не смог втиснуть полено в плиту, бросил его на пол, сказал:
— Ага. А ты куда наладился?
— Тетке Серафиме помочь. А ты что не помогаешь?
— Устал.
— Ходил куда?
— Волчицу хотел выследить. Мойнаха жалко. Надежда у меня большая на него была. Волки его боялись. Узнают, что Мойнаха нет, осмелеют — туго нам придется.
Отец замолчал. Я постоял с минуту (неудобно уходить, не выслушав до конца) и толкнул дверь плечом.
— А я вам помогать пришел, — сказал я, увидев, что тетка Серафима, подойдя к забору, кинула вилы в сенник.
Тетка Серафима повернулась, сняла варежку, поправила платок, потом снова надела варежку и, потирая поясницу под фуфайкой, устало посмотрела на меня.
— Сена хватит. Седни долго в деннике держать отару не придется. Успеть бы напоить да кошару почистить. Вишь, Файдзула сердится.
Я обернулся. Но ничего, что подтверждало бы слова тетки Серафимы, не увидел. Файдзула как Файдзула — маячит в спокойном и холодном небе. Кто его назвал хребтом? Кому пришло в голову? В Джойской тайге такие пригорки и названия даже не имеют. Там горы такие, что взглянешь на вершину — шапка валится.
— Как это сердится?
— А посмотри, — протянула руку тетка Серафима.— Над вершиной вроде как белые облачка. Видишь? Одно во-о-н, а другое эво-о-н.
— Вижу. Облака и есть.
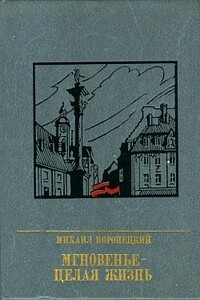
Феликс Кон… Сегодня читатель о нем знает мало. А когда-то имя этого человека было символом необычайной стойкости, большевистской выдержки и беспредельной верности революционному долгу. Оно служило примером для тысяч и тысяч революционных борцов.Через долгие годы нерчинской каторги и ссылки, черев баррикады 1905 года Феликс Кон прошел сложный путь от увлечения идеями народовольцев до марксизма, приведший его в ряды большевистской партии. Повесть написана Михаилом Воронецким, автором более двадцати книг стихов и прозы, выходивших в различных издательствах страны.
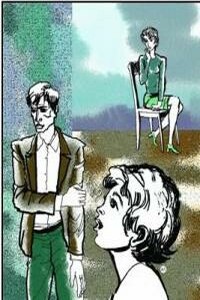
Сегодня мы знакомим читателей с израильской писательницей Идой Финк, пишущей на польском языке. Рассказы — из ее книги «Обрывок времени», которая вышла в свет в 1987 году в Лондоне в издательстве «Анекс».
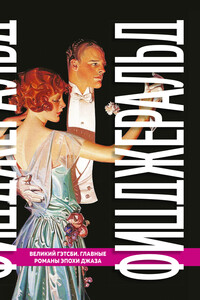
В книге представлены 4 главных романа: от ранних произведений «По эту сторону рая» и «Прекрасные и обреченные», своеобразных манифестов молодежи «века джаза», до поздних признанных шедевров – «Великий Гэтсби», «Ночь нежна». «По эту сторону рая». История Эмори Блейна, молодого и амбициозного американца, способного пойти на многое ради достижения своих целей, стала олицетворением «века джаза», его чаяний и разочарований. Как сказал сам Фицджеральд – «автор должен писать для молодежи своего поколения, для критиков следующего и для профессоров всех последующих». «Прекрасные и проклятые».

Литовский писатель Йонас Довидайтис — автор многочисленных сборников рассказов, нескольких повестей и романов, опубликованных на литовском языке. В переводе на русский язык вышли сборник рассказов «Любовь и ненависть» и роман «Большие события в Науйяместисе». Рассказы, вошедшие в этот сборник, различны и по своей тематике, и по поставленным в них проблемам, но их объединяет присущий писателю пристальный интерес к современности, желание показать простого человека в его повседневном упорном труде, в богатстве духовной жизни.

Рассказ написан о злоключениях одной девушке, перенесшей множество ударов судьбы. Этот рассказ не выдумка, основан на реальных событиях. Главная цель – никогда не сдаваться и верить, что счастье придёт.
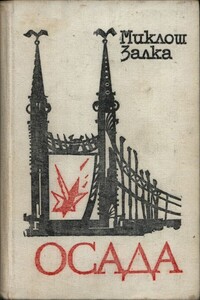
В романе известного венгерского военного писателя рассказывается об освобождении Будапешта войсками Советской Армии, о высоком гуманизме советских солдат и офицеров и той симпатии, с какой жители венгерской столицы встречали своих освободителей, помогая им вести борьбу против гитлеровцев и их сателлитов: хортистов и нилашистов. Книга предназначена для массового читателя.
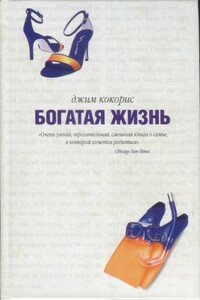
Джим Кокорис — один из выдающихся американских писателей современности. Роман «Богатая жизнь» был признан критиками одной из лучших книг 2002 года. Рецензии на книгу вышли практически во всех глянцевых журналах США, а сам автор в одночасье превратился в любимца публики. Глубокий психологизм, по-настоящему смешные жизненные ситуации, яркие, запоминающиеся образы, удивительные события и умение автора противостоять современной псевдоморали делают роман Кокориса вещью «вне времени».