Момент Макиавелли - [269]
Если мы понимаем, что «республиканское» мышление защищало «древнюю свободу», которую надо сохранить в «новых» условиях, мы можем рассматривать его как философию истории, вовлеченную в диалектику, как критику истории, содержащуюся внутри той истории, которую оно критиковало. Однако она имела не только философские, но и практические последствия; она помогала выявить «коррумпированность» существующего режима, в условиях которого личность лишалась независимости и автономии, обозначаемых с помощью понятия «добродетель», и шотландская философия истории не разрешила окончательно эту проблему. Для философии XVIII столетия было серьезным вопросом, может ли человеческая личность выжить в истории, а потому и с риторической, и с практической точки зрения это сомнение выражалось в том, что существующий порядок всегда можно представить продажным. Это сыграло важную роль, когда в ходе Войны за независимость США произошел разрыв с вигской и парламентской системой и были заложены основы республики[1401].
Последняя глава «Момента Макиавелли» вызвала больше споров, чем все предшествующие разделы вместе взятые, ибо в ней исследуется исторический характер основания Америки. Есть более ранние работы, где я говорю, что развитие описанной мной истории можно проследить от Флоренции до Филадельфии[1402]; впрочем, поскольку я хорошо помню, как решил добавить пятнадцатую главу, не думаю, что я писал книгу с намерением прийти к такому заключению. К тому же я не одинок в своей попытке проследить «республиканскую» предысторию революции и Конституции. Бернард Бейлин в «Идеологических истоках Американской революции» (The Ideological Origins of the American Revolution) уже указал на необычайную влиятельность английской оппозиционной идеологии; Дуглас Адэйр в книге «Слава и отцы-основатели» (Fame and the Founding Fathers) продемонстрировал, что лидеры 1776 и 1787 годов считали себя законодателями в греко-римском духе[1403], а Гордон Вуд в «Создании Американской республики» (The Creation of the American Republic) так основательно подошел к рассмотрению классического американского республиканизма и последствий его исчезновения, что оказался одним из главных моих оппонентов. Поэтому нет ничего из ряда вон выходящего в том, чтобы возводить истоки революции и основания США к давней республиканской традиции, или в том, чтобы видеть в них диалог между древней и новой свободой, составлявший главное содержание «момента Макиавелли»; и я был удивлен — и продолжаю удивляться, — с каким жаром (а иногда и желчностью) меня критиковали за мнения, которых, если память мне не изменяет, я не высказывал и не считал нужным поддерживать. Не могу избавиться от мысли, что эта критика во многом явилась следствием ограниченности взгляда, недопонимания — не обычного, а свойственного мышлению слишком многих историков.
Я вовсе не утверждал, что американцами — как они стали себя сознавать — двигала лишь «классическая республиканская теория» или идеология «страны». Однако они действительно существовали и представляли собой тщательно проработанные, иногда замкнутые системы взглядов, пригодные для детального изложения событий и смыслов. Стремясь отдать им должное, я порой был вынужден настолько подробно их описывать, словно они являлись самоценными. Но концепция «момента Макиавелли» сама по себе предполагает, что подобный ход мысли наталкивался на свою противоположность — в том числе в виде «современной свободы» — и вступал с ними в диалектику, в которой обе стороны заимствовали нечто друг у друга и осознавали свою историчность. Американцев, как я пытался показать, волновал вопрос сохранения ценностей в меняющихся исторических условиях; при этом я не считаю себя в ответе за тех, кто предположил, будто я говорил, что ими двигали исключительно те ценности, о сохранении которых они заботились. Отцы-основатели были поколением с достаточно сложным и даже изощренным видением истории, что бы мы ни думали о той культуре, рождению которой они способствовали.
Если я не ошибся, полагая, что мой подход неправомерно упростили, то следует задаться вопросом: что послужило причиной такого упрощения? Отчасти ответ кроется в том особом благоговении, которое американские историки привыкли испытывать по отношению к фигуре Джона Локка, философа, почитание которого, несомненно, должно проявляться в четкости мышления. Когда я работал над «Моментом Макиавелли», меня интересовало — как не заинтересовало бы сейчас — утверждение Луиса Харца, что все американцы мыслили как Локк, так как при отсутствии феодального прошлого они не могли усвоить никакой другой модели мышления. В ходе своего более раннего исследования, посвященного тому, как англичане рассматривали свое феодальное прошлое, я отметил существование значимых дискуссий, происходивших без участия Локка, но тесно связанных с дебатами, в которых он участвовал

Трактат бельгийского философа, вдохновителя событий Мая 1968 года и одного из главных участников Ситуационистского интернационала. Издан в 2019 году во Франции и переведён на русский впервые. Сопровождается специальным предисловием автора для русских читателей. Содержит 20 документальных иллюстраций. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Убедительный и настойчивый призыв Далай-ламы к ровесникам XXI века — молодым людям: отринуть национальные, религиозные и социальные различия между людьми и сделать сострадание движущей энергией жизни.

Самоубийство или суицид? Вы не увидите в этом рассказе простое понимание о смерти. Приятного Чтения. Содержит нецензурную брань.

Автор, кандидат исторических наук, на многочисленных примерах показывает, что империи в целом более устойчивые политические образования, нежели моноэтнические государства.
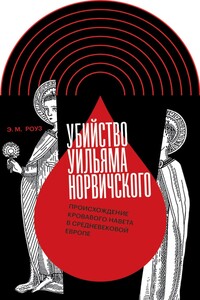
В 1144 году возле стен Норвича, города в Восточной Англии, был найден изувеченный труп молодого подмастерья Уильяма. По городу, а вскоре и за его пределами прошла молва, будто убийство – дело рук евреев, желавших надругаться над христианской верой. Именно с этого события ведет свою историю кровавый навет – обвинение евреев в практике ритуальных убийств христиан. В своей книге американская исследовательница Эмили Роуз впервые подробно изучила первоисточник одного из самых мрачных антисемитских мифов, веками процветавшего в массовом сознании.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.