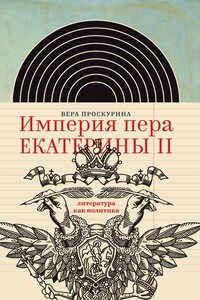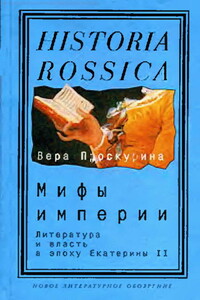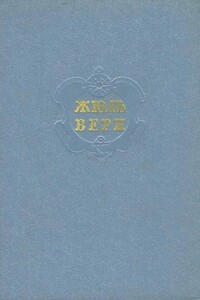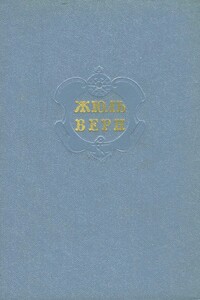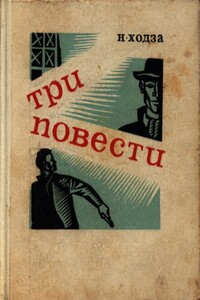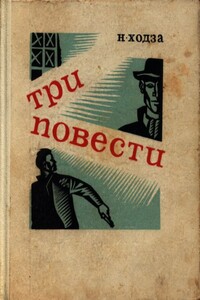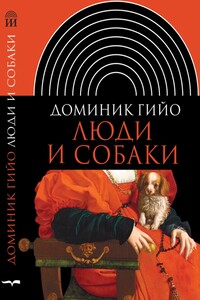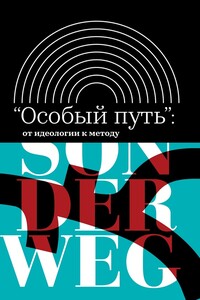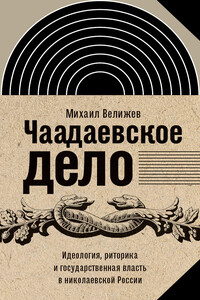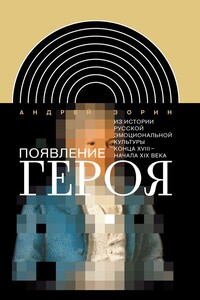Литературное наследие императрицы Екатерины II настолько обширно и разнообразно, что представляется невозможным охарактеризовать все сочинения, составляющие двенадцать томов наиболее авторитетного издания, подготовленного А. Н. Пыпиным по рукописным источникам. Наша книга не претендует на всеохватный обзор всего написанного Екатериной в разных жанрах и на разных языках. Писательские опыты русской государыни уже многократно становились предметом серьезного анализа в работах исследователей XIX–XXI веков. Все они в той или иной мере свидетельствовали о том, что при всем многообразии жанровых форматов, при большей или меньшей степени самостоятельности и оригинальности литературные сочинения русской императрицы всегда являлись выражением ее политики и идеологии. Эти тексты тщательно готовились, их распространение или постановка на театральной сцене пышно декорировались. И, как правило, наиболее значимые работы переводились на французский, немецкий и даже в отдельных случаях на английский языки. Не только русская публика, но и европейские читатели должны были быть заинтересованными свидетелями и потребителями литературных упражнений писательницы на троне.
Феномен литературной продуктивности русской императрицы не имеет аналогов в истории. Количество, разнообразие, а также степень самостоятельности работ не могут сравниться даже с сочинениями прусского императора Фридриха Великого, хотя его опыт интеллектуального придворного сотрудничества (в частности, приглашение ко двору Вольтера), несомненно, повлиял на Екатерину, старавшуюся окружить себя знаменитыми философами. Вместе с тем Екатерина постоянно подчеркивала несерьезный, дилетантский, развлекательный характер своих литературных опытов. В ее письмах к европейским друзьям всегда присутствовала риторическая формула «пишу для собственного удовольствия»:
«Что касается моих сочинений, то я смотрю на них как на безделки. Я любила делать опыты во всех родах, но мне кажется, что все, написанное мною, довольно посредственно, поэтому, кроме развлечения, я не придавала этому никакой важности»[1].
«Признание» императрицы было данью времени и моде, требовавшим упаковки «полезного» в «приятное», то есть придания самым серьезным проблемам ироничной, шутливо-аллегорической или даже комической формы. Императрица быстро усвоила главный тезис своих европейских корреспондентов, определявших Просвещение не как сумму провозглашенных доктрин и философских концепций, но как форму и характер самой интеллектуальной деятельности[2]. Как и ее литературно-философские друзья, Екатерина хотела быть легитимным членом европейской «république des letteres»[3], в которой качество любого интеллектуального продукта измерялось прежде всего его «литературностью» – формой, стилем, слогом. Это была своеобразная игра. Для России – назидание или политические директивы под маской смеха, данные от лица абстрактной власти. Для внешнего – иностранного – читателя Екатерина демонстрировала литературность этой власти, а следовательно, и принадлежность к европейской «республике письмен». Политика, философия и идеология должны были носить литературную одежду – здесь русская императрица следовала тогдашнему поветрию. Не случайно императрица самым детальным образом обсуждала свои литературные опыты именно (и почти исключительно) с европейскими друзьями.
Больше всего Екатерина II писала для театра – комедии, комические оперы, исторические пьесы. Театральные представления должны были встраивать Россию (и, конечно же, русский двор и столицу) в европейское пространство, присоединять страну, Петербург и двор к новомодным европейским (прежде всего французским) культурным ценностям. Пьесы Екатерины, представленные в искусных декорациях в придворном театре в сопровождении первоклассной музыки, превращали Петербург и двор в эстетический объект. Этот декорум – помимо идеологического и политического смысла – служил вывеской новой, просвещенной власти, стремящейся декорировать культурное пространство столицы по европейским канонам.
Культура смеха занимала особое – центральное – место в цивилизации Просвещения. Отношение к смеху, к остроумию и сатире определяло качества «человека Просвещения»[4]. К этой категории причисляла себя и Екатерина, написавшая множество не только комедий и комических опер, но и сатирических прозаических эссе, вроде «Тайна противо-нелепаго общества (Anti-absurde)», «Общества незнающих ежедневная записка», «Были и небылицы». Цивилизованность, в ее представлении, была прямо пропорциональна толерантному восприятию сатирической насмешки, а умение шутить и само остроумие сделались пропуском в культурное сообщество. Смех должен был выполнять множество функций – исправлять дурные нравы, выкорчевывать невежество, даже корректировать политику. Выбор характера «смеха» – бурлескного, пародийного, галантного или дидактического – был тесно связан с насущными политическими задачами (глава 2).
Сама литературная деятельность императрицы должна была переустановить границы европейскости. Как справедливо замечал Ларри Вульф, именно в эпоху Просвещения произошло ментально-географическое разделение на Западную и Восточную Европу, а границы между ними пролегали где-то между Пруссией и Польшей