Момент Макиавелли - [268]
Теперь мы можем перефразировать вопрос Джека Хекстера и ответить на него: в Англии (более, чем где-либо) эпохи вигского парламента республиканская мысль (более, чем что-либо) оказала своеобразное, хотя и не мгновенное воздействие. Она не породила никаких проектов замены монархии республикой. Память о времени, когда страной не правил король, — даже о периоде протектората и парламента, — последовавшем за казнью короля в 1649 году, оказалась сопряжена с памятью о Гражданской войне, повторения которой никто не хотел; убеждение же, что земная монархия была необходимой проекцией монархии божественной, действительно являлось очень прочным. Установить характер богословских воззрений существовавших республиканских философов можно лишь с большим трудом; так, если относить к ним Джона Толанда, он, по всей видимости, был не только деистом, но еще и пантеистом[1397]. Кэтрин Маколей, наиболее сведущий республиканский историк вигской Англии, обращалась не к модели Харрингтона, а к краткому правлению «Охвостья», когда группа политиков-философов — Вейн, Сидней и другие, кто, как позже скажет Вордсворт, «звал Мильтона другом», — могли размышлять о том, что республика приживется среди английского народа[1398]. Эту тему продолжили историки более позднего времени, Уильям Годвин и Сэмюэл Тейлор Кольридж, в чьих текстах мы видим, как легко платоновский унитаризм, приписываемый упомянутым мыслителям XVII столетия, мог быть перефразирован в философский идеализм XIX века. Эта линия мысли никогда не имела практических последствий. Ключевая проблема 1688 года в ретроспективе — состоялся ли описанный Локком распад правления и возврат власти народу — имела слабое отношение к республике, состоявшей из граждан, и к их добродетели; «народ» пользовался своими правами и мог, если считал нужным, свободно вернуться к монархии. В английской или британской истории нет «момента Локка», а его несомненное наличие в процессе, в ходе которого американский «народ» пришел к мысли основать республику и организовать ее по федеративному принципу, как мы увидим, подлежит обсуждению и уточнению.
На английской почве «республиканский» язык скорее связан с местом личной монархии в сбалансированной конституции. С 1642 года, когда в написанном от имени Карла I «Ответе Его Величества на Девятнадцать предложений обеих палат парламента» была сформулирована эта теория во всей ее противоречивости[1399], стало ясно, что «республика» может содержать в себе элемент активной монархии, необязательно вписывающейся в представление, согласно которому король мог существовать лишь в единстве с парламентом. Можно упрекнуть «республиканцев», что они низвели его до символической роли венецианского дожа, но Болингброк, стремившийся противопоставить обновленную монархию «венецианской олигархии» парламента, рисовал короля «патриотом» во главе «патриотического» народа. С этим словом оказались неразрывно связаны коннотации деятельной республиканской гражданской жизни, и Болингброк, употребляя его, неизбежно вступал в спор с восприятием — утвердившимся со времен Гражданской войны — гражданина как «патриота», любившего свою страну больше, чем ее правление или даже ее монарха. Его легко было представить себе в образе Брута, Катона или Катилины, и лишь в 1790‐е годы слово «патриот» стало обозначать прежде всего «лоялиста» (при этом интеллектуалы периода, последовавшего за властью вигов, отвергали его, считая обозначением «шовиниста»). Впрочем, в первую очередь оно относилось к оппозиционерам, апеллируя к римской доблести в противовес министерской продажности. Вполне обоснованные сомнения доктора Джонсона относительно мотивов такой оппозиции выразились в его знаменитом афоризме о «патриотизме» как «последнем прибежище негодяя».
«Патриотический» и «республиканский» дискурс был в значительной мере связан с парламентаризмом, который он критиковал, но которому не предлагал альтернативы, вот почему его роль оказалась чисто оппозиционной. Парламентаризм, о котором идет речь, Харрингтону предвидеть не удалось: в основе его лежало сохранение патронажа и влияния со стороны короны и аристократии, после утраты инструментов феодальной зависимости, а также активное освоение ими мира торговли и кредита, государственного долга и постоянной армии. Именно этот новый мир порицали тори эпохи королевы Анны, говоря о «финансовых кругах», о том, что Англией правит новая олигархия, сложившаяся в результате появления нового типа собственности — владения не землей и даже не движимым имуществом или торговым капиталом, а бумажными знаками, символизировавшими уверенность в будущем государства, которым теперь управляли его кредиторы. Рассуждения Юма о «государственном кредите» напоминают нам, что даже великие шотландские философы истории, которые прослеживали эволюцию торговли, свободы и учтивости, не были уверены, что нашли решение проблемы государственного долга. Эдмунд Бёрк усматривал во Французской революции союз «процента на капитал» и атеистических интеллектуалов, губительный для нравов и сложной истории их становления, однако ему пришлось признать, что в Британии, в отличие от Франции, под государственный долг подведена прочная основа национальной экономики — и что этой практики следовало придерживаться вопреки дурным предчувствиям в духе Юма, которые выражали Ричард Прайс и Томас Пейн

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Убедительный и настойчивый призыв Далай-ламы к ровесникам XXI века — молодым людям: отринуть национальные, религиозные и социальные различия между людьми и сделать сострадание движущей энергией жизни.

Самоубийство или суицид? Вы не увидите в этом рассказе простое понимание о смерти. Приятного Чтения. Содержит нецензурную брань.

Автор, кандидат исторических наук, на многочисленных примерах показывает, что империи в целом более устойчивые политические образования, нежели моноэтнические государства.

Книга представляет собой интеллектуальную биографию великого философа XX века. Это первая биография Витгенштейна, изданная на русском языке. Особенностью книги является то, что увлекательное изложение жизни Витгенштейна переплетается с интеллектуальными импровизациями автора (он назвал их «рассуждениями о формах жизни») на темы биографии Витгенштейна и его творчества, а также теоретическими экскурсами, посвященными основным произведениям великого австрийского философа. Для философов, логиков, филологов, семиотиков, лингвистов, для всех, кому дорого культурное наследие уходящего XX столетия.
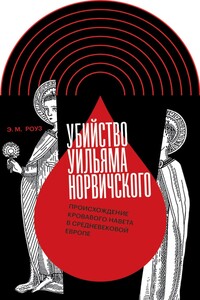
В 1144 году возле стен Норвича, города в Восточной Англии, был найден изувеченный труп молодого подмастерья Уильяма. По городу, а вскоре и за его пределами прошла молва, будто убийство – дело рук евреев, желавших надругаться над христианской верой. Именно с этого события ведет свою историю кровавый навет – обвинение евреев в практике ритуальных убийств христиан. В своей книге американская исследовательница Эмили Роуз впервые подробно изучила первоисточник одного из самых мрачных антисемитских мифов, веками процветавшего в массовом сознании.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.