Луч - [5]
— Едем это мы, — восклицала она, громко шлепая губами, — едем это мы с пани Писаркевич домой, и пошли у нас тары — бары… А тут станция. Пани Писаркевич говорит: Палениско. Да, да, это вы первая сказали!.. Ну, раз Палениско, мы за узлы и шасть из вагона. Идем в город, в Палениско, значит, а его нет как нет. Стоит какой‑то дом чудной, хлев при нем, а дальше один лес дремучий. «Господи Иисусе! — закричала я первая. — Что же это такое?» Стоим это мы, друг на дружку глядим, а наш поезд пых — пых — пых — пых… и укатил! Вчера это было, около полуночи. Пресвятая Домицела, говорим мы с пани Писаркевич, так это мы, видать, не в Палениско сошли… Сундучки наши, один мужнин, другой пани Писаркевич, нам велели в Сапах сдать в багаж. Что же нам теперь делать, люди добрые?
— Раньше надо было глядеть, — проворчал кто‑то из угла. — Огреет муж кочергой по спине, и вся недолга.
Пани Писаркевич бросила взгляд в ту сторону, откуда раздавался голос, а старушка перестала говорить, но нижняя губа ее все еще быстро двигалась, точно внезапно отпущенная пружина.
— Мы к начальнику, — снова начала она, как только представилась возможность, — говорим ему: так, мол, и так, допытываемся, упрашиваем, — он хоть бы что. Развел руками, ждите, говорит, до завтра, до полудня, только билеты ваши, говорит, пропали, а с вещами, говорит, ничего не случится. С вещами ничего не случится, а муж‑то небось приехал встречать, кобылку у Зелинского выпросил, ведь до кузницы нашей девять, да, не то восемь, не то девять верст… Обомлели мы с пани Писаркевич. У нас обеих и сорока грошей не наберется, а он: покупайте новые билеты, да еще ночевать где‑то надо. Ну, не горе ли…
— Да будет уж вам, все равно муженек взгреет. Дело ясное…
Старушка смутилась и замолчала. Слабый румянец окрасил ее морщинистые щеки. Вскоре, однако, она оправилась от смущения и опять пустилась рассказывать, правда, уже потише и обращаясь только к ближайшим соседям.
— Купили мы у буфетчиков две кружки чаю и по маленькой булочке. Накрошили булочки в чай, вот и весь ужин, а выложили мы за него восемнадцать грошей. Спать нам дежурный велел на вокзале, вместе с мужиками. Так и пролежали мы на деревянных лавках, с узлами в головах. Всю ночь только охали да ахали. Теперь вот влезли в вагон, а что с нами будет, не знаю. Возьмут да и выбросят… Мы без билетов едем! — выкрикнула она внезапно с такой отчаянной решимостью, точно сознавалась в убийстве.
Какой‑то пассажир подвинулся немного и освободил ей место. Благодарно поклонившись, старушка немедля уселась, положила узел на колени и крепко обхватила его обеими руками. Это обстоятельство снова остановило поток ее красноречия. Только губы у нее все еще беззвучно шевелились. Время от времени она начинала бессвязно бормотать:
— И не придумаю, что с нами теперь будет… — и тотчас опять умолкала.
От вагонной качки и духоты старушка, успокоившись, стала задремывать. Глаза у нее все чаще смыкались, все реже шевелились губы, голова качалась из стороны в сторону. Ее товарка по несчастью, пани Писаркевич, стояла неподалеку в группе оживленно беседовавших мужчин и, плотно сжав губы, в мрачном молчании не отводила глаз от окна. Когда разговорчивая старушка так крепко заснула, что нижняя губа у нее бессильно отвисла, Радусский вступил в тайные переговоры со старшей девочкой, той самой, которую он в Морисове водил погулять по перрону. Девочка бросала вопросительные взгляды то на свою опекуншу, то на Радусского и на женщину, спавшую рядом, то на свою пра вую руку, в которой она что‑то держала. Лицо ее то краснело, то бледнело, широко раскрытые глаза выражали сильное волнение. Наконец, девочка как будто успокоилась. Соскользнув на пол, она украдкой подобралась к спящей и, став боком к ней, незаметным движением сунула ей в руки трехрублевую бумажку. Она проделала это так ловко, что никто ничего не заметил, а старушка продолжала крепко спать, сладко похрапывая и посвистывая носом. Тесно прижавшись друг к дружке, сестры теперь не сводили глаз со спящей, следя за каждым ее движением, за каждым ее вздохом. Время от времени одной из них казалось, что бабушка уже проснулась, и она начинала ерзать от нетерпения. Тогда другая предостерегающе поднимала брови и бросала на нее многозначительный взгляд…
Радусский потихоньку вышел из вагона на площадку, облокотился на толстую железную перекладину и стал смотреть на проносившийся мимо пейзаж. Кругом простиралась открытая равнина. На полях лежал глубокий, но уже грязный и осевший снег. Насколько хватает глаз, тянулись сугробы, наметенные зимними вьюгами, снаружи еще скованные льдистой коркой, но уже рыхлые от оттепели, и омрачали ландшафт однообразием своих очертаний. Кое — где уже выступали гребни пашен, с осени поднятых плугом. Буйные февральские ветры не только обнажили их, но и сдули верхний слой песка. Повсюду на снежном покрове виднелись изжелта — бурые пятна и полосы, подобные ржавым остриям гигантских копий, и думалось, не сражались ли и впрямь здесь в зимние ночи великаны, воздушные духи, увлеченные вихрем. На далеком горизонте, сером — сером, без проблеска лазури, маячили еле различимые в тумане тополи, похожие на растрепанные перья; длинные вереницы их убегали куда‑то на край света. Поближе виднелись кое — где березовые рощицы и одинокие полузасохшие груши.
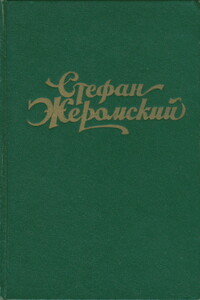
Впервые напечатан в журнале «Голос», 1889, № 49, под названием «Из дневника. 1. Собачий долг» с указанием в конце: «Продолжение следует». По первоначальному замыслу этим рассказом должен был открываться задуманный Жеромским цикл «Из дневника» (см. примечание к рассказу «Забвение»).«Меня взяли в цензуре на заметку как автора «неблагонадежного»… «Собачий долг» искромсали так, что буквально ничего не осталось», — записывает Жеромский в дневнике 23. I. 1890 г. В частности, цензура не пропустила оправдывающий название конец рассказа.Легшее в основу рассказа действительное происшествие описано Жеромским в дневнике 28 января 1889 г.
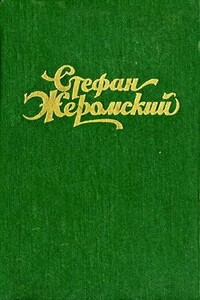
Повесть Жеромского носит автобиографический характер. В основу ее легли переживания юношеских лет писателя. Действие повести относится к 70 – 80-м годам XIX столетия, когда в Королевстве Польском после подавления национально-освободительного восстания 1863 года политика русификации принимает особо острые формы. В польских школах вводится преподавание на русском языке, польский язык остается в школьной программе как необязательный. Школа становится одним из центров русификации польской молодежи.
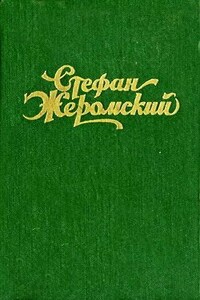
Роман «Верная река» (1912) – о восстании 1863 года – сочетает достоверность исторических фактов и романтическую коллизию любви бедной шляхтянки Саломеи Брыницкой к раненому повстанцу, князю Юзефу.
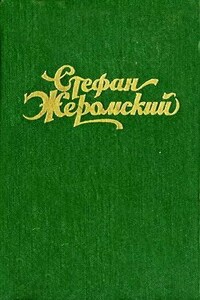
Роман «Бездомные» в свое время принес писателю большую известность и был высоко оценен критикой. В нем впервые Жеромский исследует жизнь промышленных рабочих (предварительно писатель побывал на шахтах в Домбровском бассейне и металлургических заводах). Бунтарский пафос, глубоко реалистические мотивировки соседствуют в романе с изображением страдания как извечного закона бытия и таинственного предначертания.Герой его врач Томаш Юдым считает, что ассоциация врачей должна потребовать от государства и промышленников коренной реформы в системе охраны труда и народного здравоохранения.
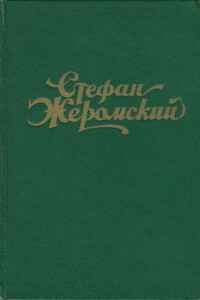
Рассказ был включен в сборник «Прозаические произведения», 1898 г. Журнальная публикация неизвестна.На русском языке впервые напечатан в журнале «Вестник иностранной литературы», 1906, № 11, под названием «Наказание», перевод А. И. Яцимирского.
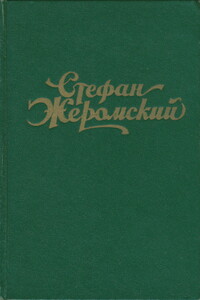
Впервые напечатан в журнале «Голос», 1891, №№ 24–26. Вошел в сборник «Рассказы» (Варшава, 1895).Студенческий быт изображен в рассказе по воспоминаниям писателя. О нужде Обарецкого, когда тот был еще «бедным студентом четвертого курса», Жеромский пишет с тем же легким юмором, с которым когда‑то записывал в дневнике о себе: «Иду я по Трэмбацкой улице, стараясь так искусно ставить ноги, чтобы не все хотя бы видели, что подошвы моих ботинок перешли в область иллюзии» (5. XI. 1887 г.). Или: «Голодный, ослабевший, в одолженном пальтишке, тесном, как смирительная рубашка, я иду по Краковскому предместью…» (11.
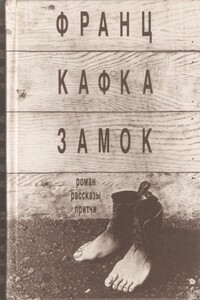
Франц Кафка. Замок. Роман, рассказы, притчи. / Сост., вступ. статья Е. Л. Войскунского. — М.: РИФ, 1991 – 411 с.В сборник одного из крупнейших прозаиков XX века Франца Кафки (1883 — 1924) вошли роман «Замок», рассказы и притчи — из них «Изыскания собаки», «Заботы отца семейства» и «На галерке», а также статья Л. З. Копелева о судьбе творческого наследия писателя впервые публикуются на русском языке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Один из лучших романов Гюго — «Отверженные». Это громадная эпопея, представляющая целую энциклопедию французской жизни начала XIX века. Сюжет романа чрезвычайно увлекателен, судьбы его героев удивительно связаны между собой неожиданными и таинственными узами. Его основная идея — это путь от зла к добру, моральное совершенствование как средство преобразования жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
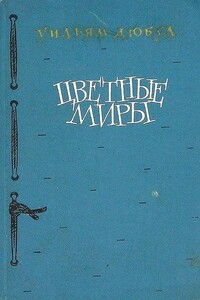
Роман американского писателя Уильяма Дюбуа «Цветные миры» рассказывает о борьбе негритянского народа за расовое равноправие, об этапах становления его гражданского и нравственного самосознания.
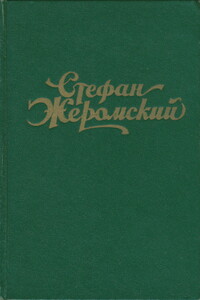
Впервые напечатан в журнале «Голос», 1891, № 5 как новелла из цикла «Рефлексы» («После Седана», «Дурное предчувствие», «Искушение» и «Да свершится надо мной судьба»). Вошел в сборник «Рассказы» (Варшава, 1895). На русском языке был напечатан в журнале «Мир Божий», 1896, № 9, перевод М. 3.
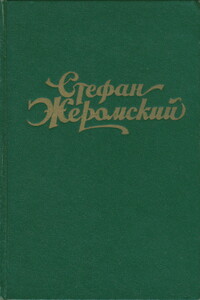
Впервые напечатан в журнале «Голос», 1892, № 44. Вошел в сборник «Рассказы» (Варшава, 1895). На русском языке был впервые напечатан в журнале «Мир Божий», 1896, № 9. («Из жизни». Рассказы Стефана Жеромского. Перевод М. 3.)
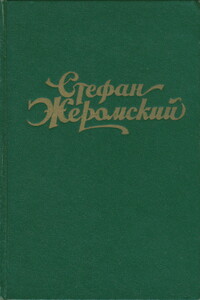
Впервые напечатан в журнале «Критика» (Краков, 1905, тетрадь I). В этом же году в Кракове вышел отдельным изданием, под псевдонимом Маврикия Зыха. Сюжет рассказа основан на событии, действительно имевшем место в описываемой местности во время восстания 1863 г., как об этом свидетельствует предание, по сей день сохранившееся в народной памяти. Так, по сообщению современного польского литературоведа профессора Казимежа Выки, старые жители расположенной неподалеку от Кельц деревни Гозд рассказывают следующую историю о находящейся вблизи села могиле неизвестного повстанца: «Все они знают от своих отцов и дедов, что могильный крест стоит на месте прежнего, а тот — на месте еще более старого, первого, который был поставлен кем‑то нездешним на могиле повстанца, расстрелянного за побег из русской армии.
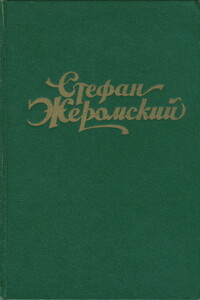
Впервые напечатан в журнале «Голос», 1896, №№ 8—17 с указанием даты написания: «Люцерн, февраль 1896 года». Рассказ был включен в сборник «Прозаические произведения» (Варшава, 1898).Название рассказа заимствовано из известной народной песни, содержание которой поэтически передал А. Мицкевич в XII книге «Пана Тадеуша»:«И в такт сплетаются созвучья все чудесней, Передающие напев знакомой песни:Скитается солдат по свету, как бродяга, От голода и ран едва живой, бедняга, И падает у ног коня, теряя силу, И роет верный конь солдатскую могилу».(Перевод С.