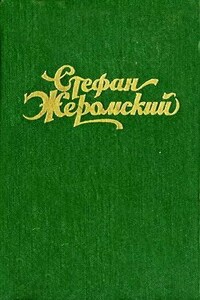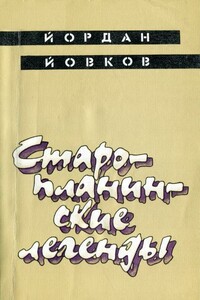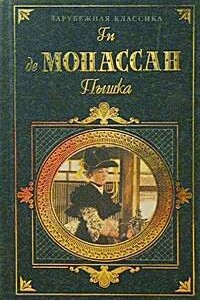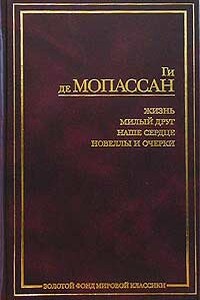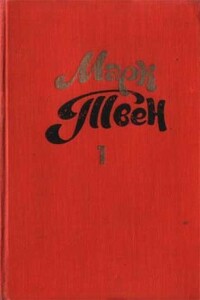I
Останавливаясь на каждом полустанке и разъезде, поезд подошел, наконец, к станции Сапы, узлу трех железных дорог. Радусский, перезнакомившийся в пути со всеми соседями по «некурящему» вагону третьего класса, на всякой остановке выбегал в буфет, хотя торговали на станциях главным образом пивом да колбасами, поразительно похожими на шлеи с гужами, которые, primo[1], неделями дубили в морской воде, и, secundo[2], месяцами сушили на тропическом солнце. Он покупал что придется, впрочем, не для себя, а для своих спутников: для детей и дамы в поношенном салопе, для пожилого господина неопределенных занятий в бараньем полушубке, для двух мужиков, направлявшихся в город по судебному делу, кухарки, везшей огромную корзину с рыбой, и даже для еврея, который был, пожалуй, раза в три старше прусской конституции и все время спал, а просыпаясь на минуту, кряхтел и совсем не по — светски терся своей сгорбленной спиной о поручень.
Главным собеседником Радусского был господин в полушубке. Всякий раз, когда подъезжали к какой‑нибудь станции, он сообщал ее название и, показывая в окно пальцем, — ноготь на этом пальце был устрашающе длинным и грязным, — во всеуслышание перечислял деревни и поместья, расположенные поблизости, фамилии начальников станций, помощников, старших и младших телеграфистов и даже буфетчиков. Все это он проделывал на редкость добросовестно, словно тем самым хотел вознаградить попутчика за доставляемые в вагон пиво, бутерброды etc.[3] и запасом своих знаний возместить расходы на добавочные лакомства, которые Радусский покупал от себя. Радусский слушал его очень внимательно, но расспрашивал главным образом о местности между Сапами и Лжавцем. Он тихо повторял за господином в полушубке названия четырех маленьких станций и при этом всякий раз как‑то странно отворачивал голову и смотрел в потолок. Прочие пассажиры старались не отставать от словоохотливого господина и сообщали новые подробности и о самих станциях и об их окрестностях.
Тем временем вагон, минуя стрелку, резко качнулся и, прежде чем у пассажиров успело исчезнуть с лиц стереотипное выражение испуга — мол, не крушение ли! — медленно подошел к перрону. С неизменным грохотом отворилась дверь. Показался кондуктор, хилое существо с жидкой черной бородкой и длинной шеей. Ссутулившись под тяжестью не по росту большой шинели, бедняга так стремительно зашагал по вагону, точно силился вырваться из своего одеяния и убежать на край света. По пути он, для пущей важности произнося слова в нос, оповестил о пересадке пассажиров, едущих на Лжавец.
— Ну — с, уважаемые господа, — весело воскликнул Радусский, — мне на Лжавец! Счастливого пути…
Он живо подхватил свой кожаный саквояжик, раскланялся с попутчиками, соскочил на перрон и утонул в густой толпе. Поезда подходили и отходили, почти ни на миг не умолкали свистки, звонки, стук колес, людской гомон. По перрону сновал народ самого разнообразного звания: от мужиков в желтых кожухах и евреев в засаленных халатах и грубых башмаках до изящных джентльменов в щегольских пальто с бобровыми воротниками и бобровых тапках. Двери залов второго и третьего класса непрерывно поглощали и извергали два людских потока. Трудно было перейти перрон в такой толчее. Радусскнй, держа в руке свой маленький саквояж, отдался движению толпы, которая то затягивала его внутрь, то выталкивала наружу. Блаженное чувство счастья, словно пенящееся вино в хрустальной чаше, переполняло его сердце, расслабляло руки и ноги. Увлекаемый толпой, он то и дело касался кого‑нибудь, и кто бы ни был его сосед, это прикосновение было приятно Радусскому; он прислушивался к его речи, устремлял на него свой затуманенный волнением, но жадный и пытливый взор. Обратись сейчас к нему любой из этих людей, богатый или бедный, оборвыш или щеголь, порядочный или негодяй, и скажи: «Пан Ян Радусский, выручите меня в нужде, дайте сотню или тысячу рублей», — он сделал бы это немедленно. Но никто не обращал на него внимания, разве только те, к кому он слишком близко наклонялся.
— Ни одной родной души, ни одного дружеского взгляда… — шептал он.
Иногда из‑за голов мелькал чей‑то силуэт, чей‑то знакомый, страшно знакомый профиль, и сердце сжималось от смешной боли, тревоги и стыда. Присмотревшись, он видел, что обознался: это был не тот человек. С тем он часто виделся, хорошо его знал и совсем недавно много выстрадал из‑за него, но это случилось за две тысячи верст от станции Сапы. Теперь все это было уже далеко, бесконечно далеко… Порой перед глазами проплывало лицо, которое он несомненно видел в этих краях, в детстве или в ранней юности, но настолько потускневшее в памяти за долгие годы, настолько постаревшее и изменившееся, что теперь оно маячило перед глазами, подобно странному миражу, тревожило память, подобно докучливой химере, ускользающей из объятий мысли.
Подхваченный новым потоком, Радусский прошел в зал ожидания второго класса и остановился только в самом дальнем углу. Зал был большой и очень высокий. Ряд колонн отделял его от камеры хранения ба — гажа. У главного входа находилась большая стойка, именуемая буфетом. Лепной потолок почернел от многолетней керосиновой копоти; такими же черными были и стены, казалось, насквозь пропитанные дымом папирос и сигар; мебель, выкрашенная одноцветной масляной краской, была ветхая, вся в пятнах и царапинах. Радусский сел на плетеную скамью, поставил в ногах свой саквояж и снова предался все тем же странным лихорадочным мечтаниям. Говор толпы, текущей нескончаемым потоком, сливался в этом углу в смутный однообразный гул, тихо отдаваясь под закопченным потолком, как звуки органа в деревенском костеле.