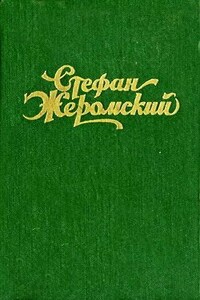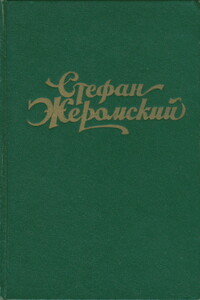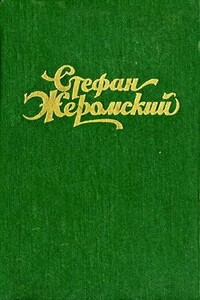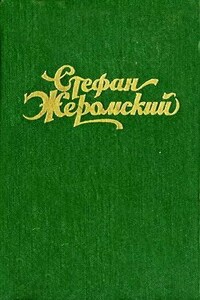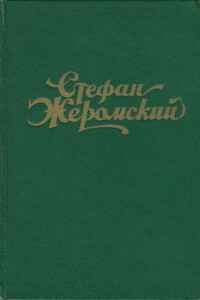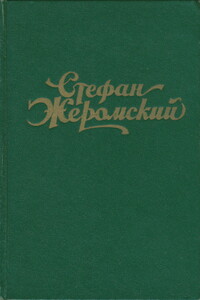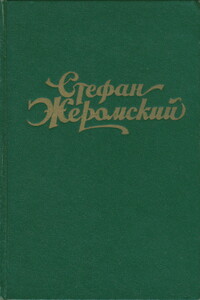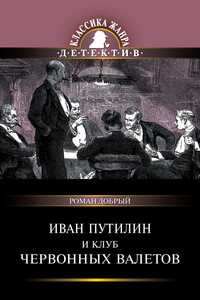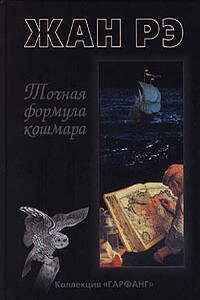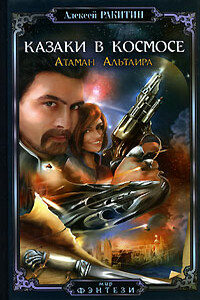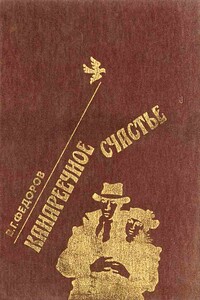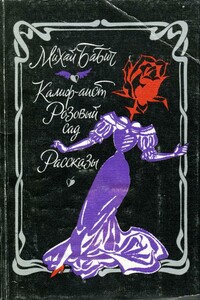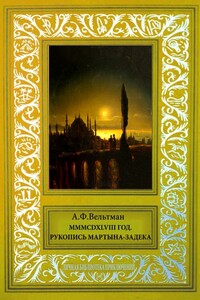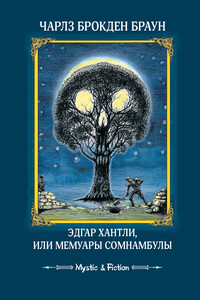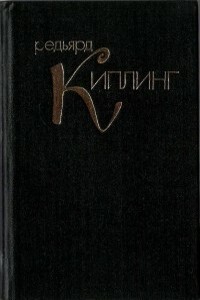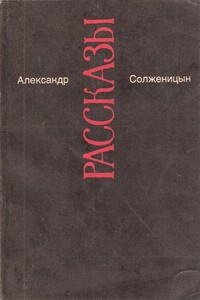Снова его стал мучить холод, проникавший до мозга костей, голова раскалывалась, словно под ударами топора. Нестерпимая боль терзала правое бедро. Казалось, что в нем застрял железный крюк и кто-то пытается его выдернуть. Жар, непонятный, неведомый здоровому телу, пробегал по его спине, и мрак, пронизанный многоцветными искрами, слепил глаза. Он кутался в полушубок, который еще накануне стащил с солдата, убитого в прибрежных зарослях. Голые ступни и окровавленные голени он проталкивал поглубже в груду трупов и старался теснее прижаться к тем двум, лежащим рядом людям, которые всю ночь согревали его теплом своих кровоточащих ран и пробуждали своими воплями и стонами от смертного сна к дыханию жизни. Но и те двое уже затихли, похолодели и стали такими же безобразными, как и все залитое кровью жнивье вокруг. Руки его и ноги, искавшие живого тепла, наталкивались только на мокрые и скользкие тела покойников.
Он поднял голову.
Его мысленному взору представилось все свершившееся, все, что он пережил, – и он вновь увидел деяние, которое уже выстрадал в душе. Сотни трупов громоздились перед ним в предрассветном тумане, подобно белой горе. Это были раненые, которых прикончили по приказу их соотечественника и недавнего заговорщика, теперь одного из вражеских командиров,[1] – трупы, обобранные до нитки вражескими солдатами, растерзанные штыками, десятки раз пригвожденные к земле офицерскими шашками, черепа, размозженные пистолетными выстрелами в упор, раздавленные колесами пушек Ченгерия.[2]
Далеко вокруг песчаная почва порыжела от крови, которая до последней капли вытекла из этих трупов. Размякли твердые комья пахотной земли, растаял снег. Сюда со всех сторон волокли за ноги убитых, волосы их дочиста подмели широкое поле, а окостенелые пальцы разборонили его. Умирающие заронили в борозды предсмертные слова, растревожили их своим последним вздохом.
Умолкло и затихло малогощское поле,[3] Последний оставшийся в живых воин глядел на него сквозь пелену смерти в неясном свете раннего утра.
Но как странно! Ведь совсем недавно здесь стояли кони… Еще гудит земля, триста боевых товарищей с отчаянным криком мчатся во весь опор на врага! Где же твой конь? Где шашка? Где твой последний товарищ – железное стремя под ногой?
Не слышно уже больше грохота гранат Добровольского, засыпавших долину. Исчезли казацкие и драгунские разъезды, которые больше четырех часов вели жестокую стрельбу, налетая с флангов. На юге – там, где клубился густой дым и сверкал огонь, слабо вырисовывается обрывистый холм… На западе белеет кладбищенская стена, за которой скрывался отряд Езеранского,[4] кавалерия, пушки… А посредине, где стояла пехота, – там нет ничего! С двустволками к ноге, бьющими всего лишь на сто шагов, стояли повстанцы под огнем врага, стрелявшего по ним, как по мишеням, из винтовок, поражающих с полутора тысяч метров. Повстанцы терпеливо, со стоицизмом древних греков – «приди и возьми!»[5] – ждали, пока враг приблизится к ним на выстрел, пока раздастся команда: «в атаку!» И вот все они лежат, сваленные в кучу. Вдалеке над равниной от местечка, сожженного армией дотла, поднимались и кружились клубы дыма. Временами, словно трепещущие стяги, взвивались над дымящимися пожарищами и пепелищами языки пламени – символ беспощадности, – беглыми бликами мелькали во мраке смерти и исступленно взывали к темному небу. И тогда откуда-то из черного пепелища раздавался душераздирающий человеческий крик, достигал ушей раненого, но это уже не волновало его и не могло заставить даже пошевельнуться. Какие-то чувства просыпались в нем, подобно вспышкам огня над пожарищем, и тоже гасли в едком тумане мучительных страданий.
Пошел мелкий дождь со снегом. Из лесу над Лосьной пополз сырой туман и затянул голые крутые холмы, берега реки и поле. Лицо стало влажным, словно его вытерли мокрым платком. В утреннем тумане виден был темный лес, взъерошенный елями. От сплошной стены деревьев по пустынному полю проносился, как теплый ветерок, трепетный шелест ветвей. Медленно покачивались вытянувшиеся к небу верхушки деревьев и низко стелющиеся мокрые ветви, как бы призывая глухим шепотом искать убежище у них.
Живых людей не было видно. Никого – нигде. Неподалеку лежал убитый в грязных посконных штанах. Перегнувшись через борозду, раненый снял с него эти штаны и торопливо натянул их на свои голые дрожащие ноги. Он искал глазами, нет ли на трупах сапог, но их не было. Все обобрано и разграблено! Вдруг с востока, со стороны Больмина, раздался орудийный выстрел… За ним второй… третий… От этого грохота раненый встрепенулся. Во всем его существе всколыхнулись и пробудились силы. Битва! К оружию! В ряды! Он быстро-быстро пополз на четвереньках в ту сторону. Но, сделав несколько движений, снова упал головой на землю. Правая нога беспомощно волочилась. Бедро рвала жгучая боль. Ощупав больное место, раненый наткнулся большим пальцем на глубокую воспаленную рану, из которой скупо, но непрерывно сочилась кровь. Левым глазом он не видел. Бровь, веко, глазное яблоко, скулу закрыл большой бугор, который полыхал пламенем, сыпавшим разноцветные искры. Глаза уже не было, была только странная, нелепая, огромная опухоль. Волосы на его израненной шашками голове пропитались кровью, слиплись сосульками и, казалось, будто на нем красная шапка. На груди, между ребрами, на плечах гноились раны от штыковых ударов. Но нестерпимей всякой боли был холод. Он хватал его своей железной лапой за окровавленные волосы, вонзал когти в тело, в кости и заставлял дрожать этот изуродованный полутруп в жестокой лихорадке. Холод заставлял его двигаться. Он снова пополз на четвереньках, то опираясь на обе руки и левое колено, то на ступню и ладони, волоча безжизненную правую ногу. Он представлял собой трагикомическую фигуру и вместе с тем был олицетворением истинного несчастья. Так он дополз до опушки леса. В холодном дожде и тумане покачивались еловые ветви. От них струился тихий шелест, в котором не было ни жалости, ни сочувствия, ни сострадания, ни презрения. Этот бесстрастный шум долго тревожил полуживое сердце.