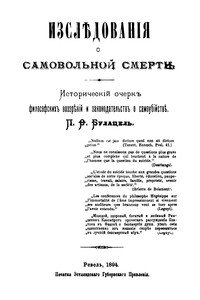Компульсивная красота - [51]
Но что за карта механистического модернизма здесь предложена? Работы Дюшан, Поповой и Леже в «Достижениях механики» представляют различные позиции в процессе индустриализации культуры (механический рисунок в картине, конструктивистская сценография в театре, авангардное кино). Идиома, использованная в названии картины Дюшан, «Фабрика моих мыслей», подразумевает механизацию как ремесла художника, так и (бес)сознательного мышления. Однако это сделано не ради принятия методов индустриального производства как таковых, а скорее в качестве насмешки над традиционной репрезентацией и модернистской экспрессией. В дадаизме машина выполняет пародийную функцию; пародия здесь удерживается в рамках заданного кода живописи и тем самым утверждает тот самый порядок, который на другом уровне по-дендистски высмеивает[388]. В этом отношении диалектической противоположностью картины Дюшан служит конструкция Поповой. Едва ли пародийная, эта конструктивистская сценическая установка представляет собой аффирмативный эскиз грядущего промышленного коммунизма, к которому актеры Мейерхольда отсылали своими биомеханическими жестами (основой этих жестов послужили для Мейерхольда тейлористские исследования труда). Здесь художница работает не над тем, чтобы подключить индустрию к искусству тематически, а наоборот — чтобы «перевести задачу из эстетической плоскости в производственническую» (Попова)[389]. Позиция Леже отличается и от позиции Дюшан, и от позиции Поповой: вместо пародии или объединения искусства и промышленности он предлагает популистскую эстетику, основанную на «промышленно изготовленном объекте»[390]. В результате он признает капитализм движущей силой, которой модернизм должен каким-то образом соответствовать: искусство становится абстрактным в ответ на требование его «специализации», и художник, чтобы «обновить человеческий спектакль механически», должен адаптировать машину и товар, должен обратиться к капиталистическому «спектаклю» и индустриальному «шоку»[391].
Эта позиция обратна сюрреалистической позиции — отсутствующему четвертому термину этой неполной карты. Ведь если дада и конструктивизм образуют диалектическую пару, то это верно и для дисфункциональных приборов сюрреализма и механистических моделей Леже (не говоря уже о Ле Корбюзье, Баухаусе среднего периода и многих других — конечно, разных, но в то же время близких с точки зрения данной оппозиции[392]). В то время как механистические образы дада пародируют институт автономного искусства, при этом утверждая собственные индивидуалистические практики, производственническое крыло конструктивизма стремится найти выход за пределы этого института в коллективном производстве индустриальной культуры. И в то время как Леже и компания настаивают на рациональной красоте капиталистического объекта, сюрреализм акцентирует нездешнее, вытесненное современной рациональностью: желание и фантазию. Под его взором дирижабли на фотографии могут стать фантастическими рыбами и безвредными бомбами, пневматическими пенисами и надувными грудями — скорее частичными объектами желания, нежели массовыми моделями объективности. «В каждом [рациональном] объекте имеется некий иррациональный осадок», — писал в 1933 году Роже Кайуа[393]; этот осадок и улавливает сюрреалистический взгляд. Он делает это с целью спасти объект от жесткой функциональности и тотальной объективности или, по крайней мере, показать, что телесные следы не стерты в нем без остатка. Словом, через (ир)рационализацию объекта сюрреалисты стремятся к «самой субъективности, „освобожденной“ в своем фантазме»[394]. Хотя и связанные с разными социоэкономическими порядками, Попова и Леже в равной степени представляют такие направления модернизма, которые превозносят индустриальную объективность, возвещая триумф нового технического мира, нового рационального человека. Сюрреализм придерживается другой точки зрения: механизация не производит на свет новое объективное существо; она порождает нездешнюю химеру вроде людей-инсектоидов в «Достижениях механического».
Почти все механицистские течения модернизма фетишистски фиксируются на машине как объекте или образе; они редко помещают ее в контекст социальных процессов. Даже сюрреалистическая критика нередко сосредоточена на машине как таковой, а не на ее капиталистическом использовании. Тем не менее не следует отмахиваться от этой критики как от очередного проявления либерального гуманизма или романтического антикапитализма. Ведь сюрреализм не отвергает становление тела машиной и/или товаром из реакционной ностальгии по естественному человеку (что во многом характерно для экспрессионизма). Зачастую сюрреализм сопротивляется этому процессу путем диалектической мобилизации его собственных психических эффектов, его собственного психического ущерба. Возможно, лишь такой критик сюрреализма, как Теодор Адорно, сумел понять неоднозначность этого критически-избавительного подхода: «Сюрреализм, — ретроспективно писал он, — образует дополнение к новой вещественности, возникшей в то же самое время <…> [Он] собирает то, в чем

Ни для кого не секрет, что современные СМИ оказывают значительное влияние на политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь общества. Но можем ли мы безоговорочно им доверять в эпоху постправды и фейковых новостей?Сергей Ильченко — доцент кафедры телерадиожурналистики СПбГУ, автор и ведущий многочисленных теле- и радиопрограмм — настойчиво и последовательно борется с фейковой журналистикой. Автор ярко, конкретно и подробно описывает работу российских и зарубежных СМИ, раскрывает приемы, при помощи которых нас вводят в заблуждение и навязывают «правильный» взгляд на современные события и на исторические факты.Помимо того что вы познакомитесь с основными приемами манипуляции, пропаганды и рекламы, научитесь отличать праву от вымысла, вы узнаете, как вводят в заблуждение читателей, телезрителей и даже радиослушателей.
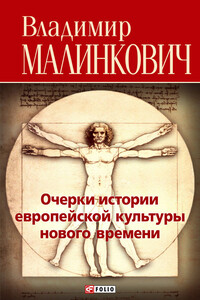
Книга известного политолога и публициста Владимира Малинковича посвящена сложным проблемам развития культуры в Европе Нового времени. Речь идет, в первую очередь, о тех противоречивых тенденциях в истории европейских народов, которые вызваны сложностью поисков необходимого равновесия между процессами духовной и материальной жизни человека и общества. Главы книги посвящены проблемам гуманизма Ренессанса, культурному хаосу эпохи барокко, противоречиям того пути, который был предложен просветителями, творчеству Гоголя, европейскому декадансу, пессиместическим настроениям Антона Чехова, наконец, майскому, 1968 года, бунту французской молодежи против общества потребления.

Произведения античных писателей, открывающие начальные страницы отечественной истории, впервые рассмотрены в сочетании с памятниками изобразительного искусства VI-IV вв. до нашей эры. Собранные воедино, систематизированные и исследованные автором свидетельства великих греческих историков (Геродот), драматургов (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан), ораторов (Исократ,Демосфен, Эсхин) и других великих представителей Древней Греции дают возможность воссоздать историю и культуру, этногеографию и фольклор, нравы и обычаи народов, населявших Восточную Европу, которую эллины называли Скифией.

Сборник статей социолога культуры, литературного критика и переводчика Б. В. Дубина (1946–2014) содержит наиболее яркие его работы. Автор рассматривает такие актуальные темы, как соотношение классики, массовой словесности и авангарда, литература как социальный институт (книгоиздание, библиотеки, премии, цензура и т. д.), «формульная» литература (исторический роман, боевик, фантастика, любовный роман), биография как литературная конструкция, идеология литературы, различные коммуникационные системы (телевидение, театр, музей, слухи, спорт) и т. д.

В книге собраны беседы с поэтами из России и Восточной Европы (Беларусь, Литва, Польша, Украина), работающими в Нью-Йорке и на его литературной орбите, о диаспоре, эмиграции и ее «волнах», родном и неродном языках, архитектуре и урбанизме, пересечении географических, политических и семиотических границ, точках отталкивания и притяжения между разными поколениями литературных диаспор конца XX – начала XXI в. «Общим местом» бесед служит Нью-Йорк, его городской, литературный и мифологический ландшафт, рассматриваемый сквозь призму языка и поэтических традиций и сопоставляемый с другими центрами русской и восточноевропейской культур в диаспоре и в метрополии.

В новой книге теоретика литературы и культуры Ольги Бурениной-Петровой феномен цирка анализируется со всех возможных сторон – не только в жанровых составляющих данного вида искусства, но и в его семиотике, истории и разного рода междисциплинарных контекстах. Столь фундаментальное исследование роли циркового искусства в пространстве культуры предпринимается впервые. Книга предназначается специалистам по теории культуры и литературы, искусствоведам, антропологам, а также более широкой публике, интересующейся этими вопросами.Ольга Буренина-Петрова – доктор филологических наук, преподает в Институте славистики университета г. Цюриха (Швейцария).

Это первая книга, написанная в диалоге с замечательным художником Оскаром Рабиным и на основе бесед с ним. Его многочисленные замечания и пометки были с благодарностью учтены автором. Вместе с тем скрупулезность и въедливость автора, профессионального социолога, позволили ему проверить и уточнить многие факты, прежде повторявшиеся едва ли не всеми, кто писал о Рабине, а также предложить новый анализ ряда сюжетных линий, определявших генезис второй волны русского нонконформистского искусства, многие представители которого оказались в 1970-е—1980-е годы в эмиграции.

«В течение целого дня я воображал, что сойду с ума, и был даже доволен этой мыслью, потому что тогда у меня было бы все, что я хотел», – восклицает воодушевленный Оскар Шлеммер, один из профессоров легендарного Баухауса, после посещения коллекции искусства психиатрических пациентов в Гейдельберге. В эпоху авангарда маргинальность, аутсайдерство, безумие, странность, алогизм становятся новыми «объектами желания». Кризис канона классической эстетики привел к тому, что новые течения в искусстве стали включать в свой метанарратив не замечаемое ранее творчество аутсайдеров.

Что будет, если академический искусствовед в начале 1990‐х годов волей судьбы попадет на фабрику новостей? Собранные в этой книге статьи известного художественного критика и доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге Киры Долининой печатались газетой и журналами Издательского дома «Коммерсантъ» с 1993‐го по 2020 год. Казалось бы, рожденные информационными поводами эти тексты должны были исчезать вместе с ними, но по прошествии времени они собрались в своего рода миниучебник по истории искусства, где все великие на месте и о них не только сказано все самое важное, но и простым языком объяснены серьезные искусствоведческие проблемы.