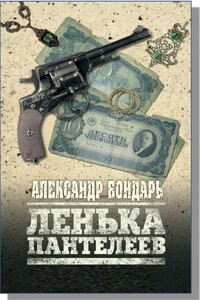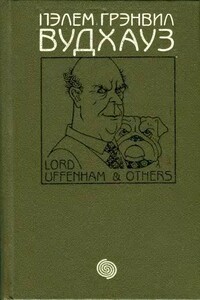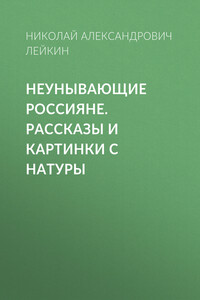— А! — Махнул на него рукою судья. — Иди с глаз моих! — Потом оборачивается к Ивану. — А если мы, детинушка, голову тебе отрубим — ты, как, возражать не будешь?
Отмахнулся Иван.
— Делайте, что хотите. Мне все едино.
— Вот и прекрасно, — судья руки потер. — На сем суд заканчивается. Пойдемте скорее, а то спектакля уже начнется вот-вот.
Отвели Ивана, посадили в темницу. Приходит к нему тюремщик, ужин приносит.
— Тут тебе каша, — говорит, — но мяса в ней нету. Мясо все с утра крысы съели. — А сам себя по животу поглаживает. — Тут до тебя, — говорит, — сидел душегуб один. Забава у него такая была: людей по темным углам хватал, да на куски резал. Как посадили его в темницу, то все прошения писал — просил, чтоб его помиловали. Простите меня, — писал, — окаянного, нечистый попутал, не буду больше. Но его не простили. Вон там, во дворе, и срубили ему голову. А палач наш — он это дело любит. Он, когда еще сорванцом был, то не играет с другими мальчишками, а все больше — в угол забьется укромный, жуков-червяков разных насобирает и сидит — отделяет им головы…
Ушел тюремщик. Одного Ивана оставил. Отодвинул Иван миску с похлебкой и над жизнью своей призадумался. А тут слышит — шаги. Заходит в темницу к нему детина здоровенный.
— Что, — говорит Ивану, — не хочешь, небось, помирать? Я предлагаю на выбор: или тут оставайся — утра жди, или со мною пошли — работать на меня будешь. Парень ты крепкий, нам такие и надобны.
Махнул рукою Иван.
— Мне, — отвечает, — все едино.
Вышли они из темницы. Мимо суда идут. А там бояре какие-то — кричат друг на друга.
— Это наш голова с помощником своим судится, — тот детина объясняет Ивану. — Вон — толстый, в углу, с глазами злыми — то голова, а который напротив — волосы длинные и непричесанные — так то помощник.
Видит Иван: детина, который толстый, кричит громко:
— А он тут сказал, что жена моя сука, так это — неправда все, это его жена — сука. И то, что я пьяница — тоже ложь, я уже четыре месяца и воды не пью. А, про него знаю, что рукоблудием он занимается, когда в уборной сидит, ибо жена его к себе не пускает. Я это сам видел, когда за ним в щелку подглядывал.
В горнице той люди сидят какие-то, пишут себе чего-то, склонившись низко.
— А это — летописцы местные, — детина тот поясняет Ивану, — те, вон, что у стены сидят — головой нашим куплены, а что напротив — его помощником.
Поднял один голову, поглядел на Ивана.
— А я-что? — Говорит. — Я — ништо. Я — человек маленький. Жалованье у меня небольшое, и мне детей кормить надобно.
Уткнулся и снова пишет себе.
Вышел Иван на улицу.
Началась у него теперь новая жизнь. Ходит он заместо пса при хозяине. На кого тот укажет — разрывает в минуту. Про Василису Иван уж забыл. Та потускнела и подурнела. И Ивану больше не хочется на нее смотреть и думать о ней тоже не хочется. Только иной раз вспомниться ему дом родимый, когда-то оставленный. Смахнет он слезу со щеки и снова идет — рвать того, на кого хозяин укажет. Придет он к нему, да и заревет грозно:
— Ты пошто, сучий пес, долгов платить не думаешь?! Пошто обижаешь хорошего человека?! Али в куски тебя никогда не рубили?!..
Так и живут.
1992, 1994, 1996–1998, 2000–2001 гг…
Туапсе-х. Индюк — Торонто — Вон.