Идеи о справедливости: шариат и культурные изменения в русском Туркестане - [123]
Возможно ли, что все эти исторические акторы попросту подстроились под новую ситуацию? Или же новые юридические практики действительно изменили их представления о справедливости, о добре и зле? Опыт, подобный опыту Назиры-Биби и Хамиды-Биби, по всей видимости, сыграл важную роль в изменении правосознания мусульман. Иными словами, я склонен верить, что эти две истицы, как и множество других женщин, теперь начали думать, что требовать права опеки над своими несовершеннолетними детьми – правильно, а когда имущество их детей находится под контролем казия – это неправильно. Важно учесть данный момент, чтобы понять, каким образом культура меняется со временем. Если Назира-Биби и Хамида-Биби адаптировали для своих внутренних потребностей русскую концепцию опекунства, можем ли мы по-прежнему расценивать их правовые действия и высказывания как характерные для «мусульманской культуры», или «ислама»? Или же, как я утверждал во вступительной части, их действия попросту отражают обыденный опыт культурных изменений?
Несколько лет назад я уделил некоторое внимание понятию «мусульманскости» во вступительном эссе для тематического выпуска журнала исламских исследований, посвященного исламу в СССР в межвоенный период[948]. В данной статье я призывал к применению восходящей (bottom-up) стратегии исследования истории мусульманских сообществ Советского Союза. Ключевое место в предлагаемом мною подходе занимает концепция «мусульманскости» – категория, которую, по моему мнению, лучше всего отражает следующее утверждение: «Будучи частью религиозно-этического сообщества, советские мусульмане были объединены особым общим культурным опытом». Во время написания указанной статьи я читал прекрасную этнографическую работу Брюса Привратски о мусульманских сообществах на юге Казахстана. В ходе полевой работы в городе Туркестан, куда к мавзолею суфия Ахмада Яссави приезжает на поклонение множество мусульман, Привратски заметил, что многие его информаторы используют особый термин «мусульманшылык». Значение данного термина таково: «идеология предпочтения мусульманской жизни как опыт сообщества <…> религиозная жизнь людей, в том числе старейшин, за исключением лишь тех, кто „переметнулся к русским“»[949].
В том эссе я кратко описал свой подход к исследованию мусульманскости и перечислил несколько способов вычленения «особого культурного опыта» мусульман из исторической канвы и эпистемически интегрированных источников. Я привел несколько феноменов проявления мусульманскости. К примеру, это передача традиционных схем исламского обучения, переживших сталинский период; формы религиозного поведения в траурных ритуалах и практиках исцеления; культивирование исламской этики посредством проведения литературных собраний. Выступая за данный подход, я опирался на более ранние исследования, демонстрирующие «рефлексивное отношение советских мусульман к своей религии и к исламу как культуре»[950]. В те годы я активно читал этнографические работы группы антропологов из г. Галле (Германия), которые изучали проявления религиозности в постсоветской Средней Азии.
Недавно я осознал, что мое использование концепции «мусульманскости» не настолько оригинально, как мне казалось. На данную тему писало несколько других исследователей Средней Азии, и многие из них также пользовались тем, что я в начале книги назвал «эмической перспективой». Я решил, что данный подход позволит мне ввести дополнительный уровень сложности в существующие нарративы об исламе в советской Средней Азии и увидеть аспекты субъективного опыта советских мусульман, которые, как правило, остаются за кадром. Моя решимость возросла, когда я заметил, что антропологи Джохан Расанаягам и Сергей Абашин занимаются тем же самым, фокусируясь на различных периодах и придерживаясь собственного подхода и стиля. Расанаягам писал об узбеках-мусульманах в постсоветский период[951], а исследования Абашина были основаны на этнографических заметках, сделанных им в ходе ранней полевой работы в Таджикистане горбачевской эры[952].
Если Расанаягам концептуализирует эмическую перспективу в терминах морали, то Абашин развивает мысль о том, что значит быть мусульманином или мусульманкой в Советском Союзе, анализируя советское публичное пространство. Абашин проводит подробный анализ речей, произносимых на ритуалах дарвешона и худой, где членам деревенских сообществ предлагается угощение, и поясняет смысл обмена между участниками в ходе ритуалов. Исследователь высказывает соображения о риторических стратегиях («речевых актах») высокопоставленных лиц (колхозного бригадира и религиозного лидера) при обращении к народу. Абашин приходит к следующему выводу:
Мусульманскость <…> осталась <…> отправной точкой их идентичности и основой признания за ними авторитета и исключительности. Такая ситуация породила разнообразные практики двойной игры, которая должна была удержать вместе советскость и мусульманскость, а не противопоставлять их[953].
Подходя к завершению книги и размышляя о собранных в ней историях, я осознаю, что концепция мусульманскости и вытекающие из нее следствия также порождают определенные проблемы. Что произойдет, если применить абашинский синтез к материалам царских архивов, которые легли в основу данной книги? Следует ли мне прийти к выводу, что, согласно изложенным мною здесь историям, жители Средней Азии, будучи потребителями колониальных механизмов правосудия, все же сохранили своего рода мусульманскую сущность, «мусульманскость»? Означает ли это, что среднеазиатские мусульмане, подавая прошение русским властям, маскировали свою мусульманскость и лишь имитировали повиновение эпистемическим законам империи? Нет, это не так: изученный мною материал приводит к совершенно противоположному заключению. Само мышление в категориях «мусульманскости», «царскости» и «советскости» отсылает к государственной категоризации, применявшейся в Российской империи и позже в СССР для концептуализации культурных различий и легитимации сосуществования множественных юрисдикций. Жители Средней Азии сами не пользовались такими категориями, когда обращались в суды, чтобы отстоять свои права и выразить собственное понимание морали. Им не требовалось обращаться к своей «мусульманскости», чтобы противопоставить ее «царскости» российской бюрократии. Зачем разбирать на части то, что существовало в неделимом виде, неотъемлемо от опыта каждого отдельного правового актора? Задача, поставленная перед этой книгой, – отобразить тотальный характер опыта жителей Средней Азии, оказавшихся в колониальном юридическом поле. При этом система значений, отраженная в их опыте, не представляет собой монолит с единой логикой, но является фрагментарной, противоречивой и неоднозначной. Несмотря на то что в основу такой системы легла идея культурных различий, среднеазиатские мусульмане не воспринимали свое поведение, законы и окружающий нравственный мир сквозь призму подобных эпистемологических противопоставлений.
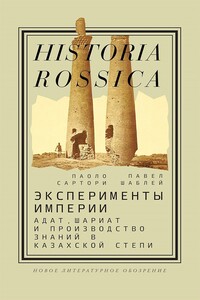
В 60–70-е годы XIX века Российская империя завершила долгий и сложный процесс присоединения Казахской степи. Чтобы наладить управление этими территориями, Петербургу требовалось провести кодификацию местного права — изучить его, очистить от того, что считалось «дикими обычаями», а также от влияния ислама — и привести в общую систему. В данной книге рассмотрена специфика этого проекта и многочисленные трудности, встретившие его организаторов. Участниками кодификации и — шире — конструирования знаний о правовой культуре Казахской степи были не только имперские чиновники и ученые-востоковеды, но и местные жители.
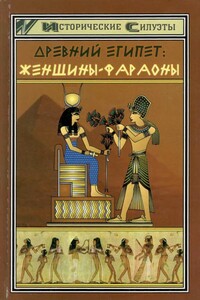
Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.
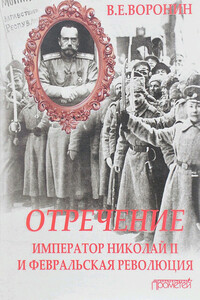
Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.

Коллективизация и голод начала 1930-х годов – один из самых болезненных сюжетов в национальных нарративах постсоветских республик. В Казахстане ценой эксперимента по превращению степных кочевников в промышленную и оседло-сельскохозяйственную нацию стала гибель четверти населения страны (1,5 млн человек), более миллиона беженцев и полностью разрушенная экономика. Почему количество жертв голода оказалось столь чудовищным? Как эта трагедия повлияла на строительство нового, советского Казахстана и удалось ли Советской власти интегрировать казахов в СССР по задуманному сценарию? Как тема казахского голода сказывается на современных политических отношениях Казахстана с Россией и на сложной дискуссии о признании геноцидом голода, вызванного коллективизацией? Опираясь на широкий круг архивных и мемуарных источников на русском и казахском языках, С.

В.Ф. Райан — крупнейший британский филолог-славист, член Британской Академии, Президент Британского общества фольклористов, прекрасный знаток русского языка и средневековых рукописей. Его книга представляет собой фундаментальное исследование глубинных корней русской культуры, является не имеющим аналога обширным компендиумом русских народных верований и суеверий, магии, колдовства и гаданий. Знакомит она читателей и с широким кругом европейских аналогий — балканских, греческих, скандинавских, англосаксонских и т.д.
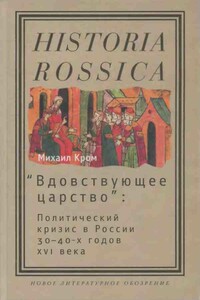
Что происходит со страной, когда во главе государства оказывается трехлетний ребенок? Таков исходный вопрос, с которого начинается данное исследование. Книга задумана как своего рода эксперимент: изучая перипетии политического кризиса, который пережила Россия в годы малолетства Ивана Грозного, автор стремился понять, как была устроена русская монархия XVI в., какая роль была отведена в ней самому государю, а какая — его советникам: боярам, дворецким, казначеям, дьякам. На переднем плане повествования — вспышки придворной борьбы, столкновения честолюбивых аристократов, дворцовые перевороты, опалы, казни и мятежи; но за этим событийным рядом проступают контуры долговременных структур, вырисовывается архаичная природа российской верховной власти (особенно в сравнении с европейскими королевствами начала Нового времени) и вместе с тем — растущая роль нарождающейся бюрократии в делах повседневного управления.
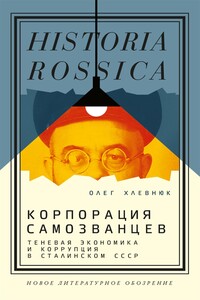
В начале 1948 года Николай Павленко, бывший председатель кооперативной строительной артели, присвоив себе звание полковника инженерных войск, а своим подчиненным другие воинские звания, с помощью подложных документов создал теневую организацию. Эта фиктивная корпорация, которая в разное время называлась Управлением военного строительства № 1 и № 10, заключила с государственными структурами многочисленные договоры и за несколько лет построила десятки участков шоссейных и железных дорог в СССР. Как была устроена организация Павленко? Как ей удалось просуществовать столь долгий срок — с 1948 по 1952 год? В своей книге Олег Хлевнюк на основании новых архивных материалов исследует историю Павленко как пример социальной мимикрии, приспособления к жизни в условиях тоталитаризма, и одновременно как часть советской теневой экономики, демонстрирующую скрытые реалии социального развития страны в позднесталинское время. Олег Хлевнюк — доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института советской и постсоветской истории НИУ ВШЭ.
