И я там был - [5]
– Ну что? Все? На лопатках?
– Нет!
– Где ж не на лопатках, когда на лопатках!
– Нет!
– Алексеич, скажи!
– Вставайте, хулиганье чертово, идиоты, дураки! Вы знаете, что мне завтра будет?!
– Ладно, Ксеич, не разоряйся, – с победным великодушием поднимается Пеца. – Вставай, ты, Азия долбаная!
Соседи наябедничали моему начальству, и я должен был покаяться и поклясться. И действительно, потом долго ничего такого не было – впрочем, по особой причине: Пеца влюбился. И влюбился, конечно, не по-людски, а в замужнюю даму, лет на десять старше него и счастливую в браке.
Тогда уже, к Новому году, вернулись в поселок все, кто работал на других базах, в том числе многие Петькины дружки и подружки. Самое время для Пецы развернуться в дружеских попойках да на девичьих игрищах. Он же – пожалуйста тебе – влюбился!
А мы тогда местными силами ставили к празднику чеховского «Медведя». Пеца вызвался представлять самого Смирнова, за режиссера был я, а Попову играла как раз та дама, врачиха, Нина Ивановна. Миловидная, общительная и смешливая дама.
В то время я у Пецы ночевал, после репетиций приходили, накармливал он меня борщом до беспамятства, а потом уже, на ночь глядя, растянувшись на койке, Пеца пускался рассуждать.
– Вот черт, Алексеич, ты скажи, а? Ведь сколько девочек было, молоденьких, что ты, все на месте, ножки – н-ца! Не поверишь. Ну вот Надюху мою, ты знаешь, вот ее, например. Девочка что надо, шик-мода. Или Зинка, ну ты не знаешь, в Тиличиках. В общем, как Смирнов, понял? «Двенадцать женщин бросил я, девять бросили меня», точно.
Я слушал Пецу уважительно.
– Она, понимаешь, как ребенок. Смотри: и муж у нее, и две пацанки как-никак, и вообще она врач – а краснеет, как школьница, что ты! Я, по пьесе, подхожу ее сегодня обнимать, ну, ты видел, а она вся красная, смеется, ручками машет – ну умрешь! А я тоже – подхожу, а сам думаю: хоть бы Алексеич скорее кончал это дело! Ну с чего, скажи, с чего? Я ж их пачками обнимал, безо всякого!
– То-то я гляжу, ты сегодня уж такой бордовенький…
– Я?! Да ладно, «бордовенький»! А что, заметно, да? Вот черт! И ведь старуха же, морщины запудривает, да что говорить! И вот надо же… аж слова позабываю.
Слова, между прочим, он и не помнил никогда, будучи самонадеянным хвастуном. Так что на репетициях и прогонах и мне, и Нине Ивановне приходилось из кожи лезть, чтоб хоть как-то сошло. Он, конечно, дернул перед спектаклем стопочку для храбрости, но волноваться начал еще когда я его загримировывал.
По пьесе, в финале Смирнов ломает стул. Мы нашли в клубе один сломанный, разобрали и опять составили, чтоб еле держался. Ну и Пеца, как вышел на сцену, так после первых же реплик и направился к стулу и со словами «Черт, какая у вас ломкая мебель» разнес его единым духом в куски. Зал смеется, а я думаю: «Что же он в конце-то ломать будет?» Гляжу, он садится на корточки спиной к залу и начинает стул чинить и все дальнейшие реплики произносит, обращаясь к заднику. Потом он начал ходить взад-вперед по сцене, разрушив все мои гениально задуманные мизансцены, ходил-ходил – и опять уселся на злополучный стул, свалившись в обломках. Зал хохочет, думает, все так и надо. Починил он стул во второй раз, а в конце с такой подлинной злобой шарахнул его об пол, что потом и чинить-то уж нечего было.
Финальную сцену взмокший Пеца провел мигом. Еще Нина Ивановна Попова, размахивая пустой ракетницей, зовет его к барьеру, а он уже подходил к ней, расставя руки, с мертвым лицом, весь пунцовый, как вечерняя заря. Она, чтобы договорить слова, отступает перед ним, а он таким образом загоняет ее в кулисы, так что гвоздь спектакля – поцелуй – видели только из первого ряда.
А Нина Ивановна тогда была и правда хороша: розовая, смеется – льстила ей все-таки Петькина любовь, как же.
Между тем поселок наш заперся до весны – зимовать. Весной пойдут пароходы, начнется путина, кто уедет, кто приедет, а пока – флот вытащен на берег, участки завалены снегом, все в сборе.
Спектаклей мы больше не ставили, любовь у Пецы прошла. Дружки его коротали зимние вечера при звоне стакана, и Пеца не замедлил к ним присоединиться.
А мне окончательно уже надоели и морские рассказы, и сопровождающее их пьянство. Пеца это почувствовал, оскорбился и стал особенно настырен. Я обозлился и попросил его пить где-нибудь в другом месте. «Тэ-эк, – сказал Пеца, – значит, горшок об горшок и кто дальше? Ладно». И с тех пор не заявлялся, а на улице только холодно кивал.
Ну и пошло: на 23 февраля, на 8 марта и просто по выходным Пеца регулярно оскандаливался. На электростации, где он работал дизелистом, за него особо не держались, и над ним нависла угроза перевода на промработу – снег резать, чаны чистить и тому подобная каторга для проштрафившихся. Пецу отчасти удерживала Надюха его, но только отчасти. Как он оскандаливался? Ну, как люди оскандаливаются? Драка в клубе, мат на танцах, пьянка в рабочее время – что об этом рассказывать…
Кое-как дотянул Пеца до первых пароходов и пошел в бригаду грузчиков, ходить «под маркой». Маркой называется одно место груза. Бывает, весит она килограммов восемьдесят. Особенно трудно таскать стекло: и неудобно, и неподъемно, а носить надо бережно. И законы у грузчиков жесткие: не доходил смену, выдохся – уходи из бригады. Пеца здоровый малый, но без привычки выматывался дико, ну и пить стал пореже.
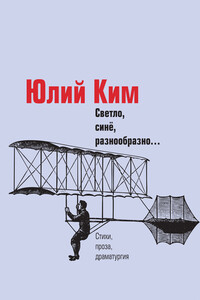
«Горе от ума», как известно, все разобрано на пословицы и поговорки, но эту строчку мало кто помнит. А Юлий Ким не только вспомнил, но и сделал названием своего очередного, четвертого в издательстве «Время» сборника: «Всё что-то видно впереди / Светло, синё, разнообразно». Упор, заметим, – на «разнообразно»: здесь и стихи, и песни, и воспоминания, и проза, и драматургия. Многое публикуется впервые. И – согласимся с автором – «очень много очень человеческих лиц», особенно в щемящем душу мемуаре «Однажды Михайлов с Ковалем» – описанием странствий автора с великими друзьями-писателями на том и на этом свете.

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.
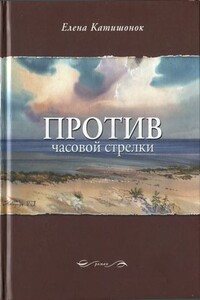
Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.
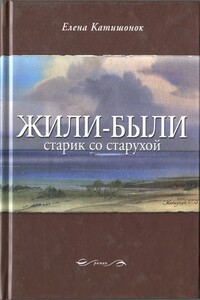
Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.
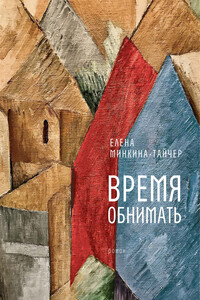
Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.
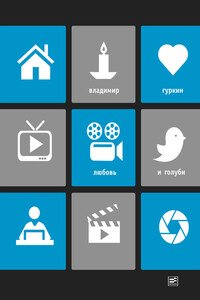
Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)