И я там был - [3]
Вдруг ветер ударил по щекам, и глаза словно заполнили все лицо.
Он обернулся и все увидел.
Вон – поселок, цепочка домиков у моря, и вот весь их путь по тундре – ничтожно короткий! Поселок так близок, что можно различить и узнать некоторые домики. На рейде пароход – беленький, отчетливый в закатном свете, – и к нему так же незаметно, как идет часовая стрелка, движется катер и тянет за собой щепочку – баржу.
Недалеко от берега – остров (из поселка видны лишь его вершины). А за островом – настоящий распахнувшийся в полземли океан, и из него в двух местах высовываются еще острова, один маленький, а другой, оказывается, огромный, теряющийся вдалеке.
И еще глаза находят два поселка и много мысов и заливов, о которых дома говорят: иду в такой-то залив, на такую-то базу – вот они, и залив, и база, вот они, черт побери!
В другой стороне мира, по ту сторону вершины лежала тундра, только тундра, текли неизвестные речки, расходились неровные цепи совсем незнакомых сопок с извилистыми ущельями и долинами.
Медленные цветные облака ровной крышей висели над Шуриком, и он смотрел из-под них, как из-под козырька, а облака, и землю, и океан освещало закатное солнце, опускающееся к горизонту, и это было захватывающе красиво. Океан ближе к солнцу был розовый, к востоку становился нежно-сиреневый и, наконец, густо-фиолетовый. Одновременно видны были и накатывающаяся на землю ночь, и нежгучее, мягкое солнце, едва просвечивающее сквозь голубые тающие скалы.
Ветер дул ровно и сильно, но Шурик не мерз и не думал о нем. Он знал, что продрогнет и спустится к ребятам, к костру, где будет какое-либо варево, но в общем-то и об этом он не думал.
Приятно было видеть поселок, такой крохотный в бесчисленных километрах вселенной, и при этом испытывать этакое добродушное превосходство.
Приятно было смотреть на пройденную дорогу и думать, что придется опять возвращаться по ней.
Приятно было видеть далекий неподвижный катер и знать, что он все-таки движется.
Сознавать, что когда они вернутся в поселок, то, потолкавшись день-другой, можно опять куда-нибудь уйти.
Сознавать, что у него есть свое прошлое и свое будущее, и что он никому не завидует, и что ему не должен завидовать никто.
Что он имеет право одобрительно думать обо всех людях и необязательно требовать от них себе того же.
Что если кто-нибудь смотрит сейчас из поселка сюда, то эта неуклюжая огромная сопка кажется изящно отточенной и туманно-синей, а Шурика и не видно совсем.
Приятно было понимать, что люди, живущие в поселке, не то еще видели и переживали, о чем ему и не снилось, что он просто москвич, впервые вышедший в тундру и сопки, – ну что ж, и это приятно.
И даже знать, что вот это достигнутое видение и понимание всего, так наполняющее сердце, потом исчезнет – но не забудется и, так или иначе, повторится.
Пеца Кузин
Мы с Пецей вначале отлично подружились. Я тогда развешивал уши, а Пеца разливался соловьем, ибо любил потрепаться больше других.
«Вот, – думал я, – это жизнь настоящая. Что по сравнению с ней наши книжные представления?»
«Это человек, – умилялся в свою очередь Пеца. – С нашими лопухами разве о чем поговоришь?»
«Конечно, он по молодости прибрехивает, – догадывался я. – Но все равно, не с ним, так с кем-нибудь это случалось же».
«Ему подзалить не грех, – мысленно соглашался Пеца. – Малый интеллигент, только что с материка, ничего такого не слышал».
– …Ну, врубаю я полный вперед, и жмем мы к пирсу, на буксире у нас плашкоут с пассажирами. Хотели, знаешь, так, с форсом подойти, а кэп косой, с похмелья великого – и не рассчитал, а про плашкоут вообще забыл. А я что? Я в машине, ни хрена не видно. Только слышу – дрынь-дрынь – кэп сигналит: полный назад! Я врубил – все равно не успели: сходу в пирс ка-ак врежемся! Я с катушек, а плашкоут на буксире, у него же машины нет, тормозить нечем – он за нами как шел, так в пирс – шарах! Ну – что там было! Пассажиры кто как стоял, так и полетели, а один дяхарь не удержался и за борт – в куфайке, в брючках, в свитре новом. Плывет, понял, а матерится на весь комбинат, кэпу – салажонок, кричит, долбаный! Н-ну, мы умерли, как он плыл!
Таких рассказов, и не только от него, я выслушал множество. Вообще говоря, лихо я начинал на Камчатке свою трудовую жизнь после института. По выходным – обязательно, а нередко и по будням в моем бараке под названием «Дом молодых специалистов», в моей холостой замызганной комнатке сходилось человек пять-шесть из местных мотористов либо матросов. На двух табуретках, застеленных газетами, воздвигалась бутыль спирту, размещались консервы, хлеб и, конечно, она, тихоокеанская селедочка, пленяющая нежностью и полнотой. Начиналось распитие и безудержная травля: молодые морячки травили азартно, тем более при свежем человеке, и орали на весь барак; взрослые травили солидно, негромко, тщательно упоминая подробности; а в общем, и те и другие травили одинаково.
После двенадцати станция выключала свет, и я зажигал белые толстые свечи. В комнате табачный туман, щеки и голова горячие, перед глазами плывут тельняшки, раздается грубая, морская, она же соленая, речь – ну и прочее пиратство. Пеца, надо сказать, и правда, походил на пирата. А так как и я не красавец собой, то мы с ним часто прохаживались насчет взаимной внешности.
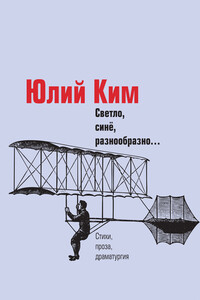
«Горе от ума», как известно, все разобрано на пословицы и поговорки, но эту строчку мало кто помнит. А Юлий Ким не только вспомнил, но и сделал названием своего очередного, четвертого в издательстве «Время» сборника: «Всё что-то видно впереди / Светло, синё, разнообразно». Упор, заметим, – на «разнообразно»: здесь и стихи, и песни, и воспоминания, и проза, и драматургия. Многое публикуется впервые. И – согласимся с автором – «очень много очень человеческих лиц», особенно в щемящем душу мемуаре «Однажды Михайлов с Ковалем» – описанием странствий автора с великими друзьями-писателями на том и на этом свете.
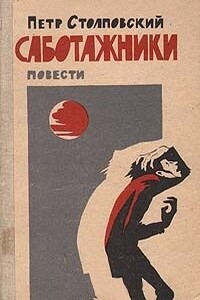
Драматические события повести Петра Столповского «Волк» разворачиваются в таёжном захолустье. Герой повести Фёдор Карякин – из тех людей, которые до конца жизни не могут забыть обиду, и «волчья душа» его на протяжении многих лет горит жаждой мести...
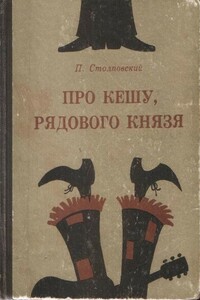
«Про Кешу, рядового Князя» — первая книга художественной прозы сытывкарского журналиста Петра Столповского. Повесть знакомит читателя с воинским бытом и солдатской службой в мирное время наших дней. Главный герой повести Кеша Киселев принадлежит к той части молодежи, которую в последние годы принято называть трудной. Все, происходящее на страницах книги, увидено его глазами и прочувствовано с его жизненных позиций. Однако событийная канва повести, становясь человеческим опытом героя, меняет его самого. Служба в Советской Армии становится для рядового Князя хорошей школой, суровой, но справедливой, и в конечном счете доброй.
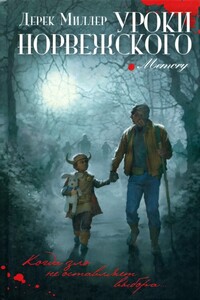
Сюжет захватывающего психологического триллера разворачивается в Норвегии. Спокойную жизнь скандинавов всё чаще нарушают преступления, совершаемые эмигрантами из неспокойных регионов Европы. Шелдон, бывший американский морпех и ветеран корейской войны, недавно переехавший к внучке в Осло, становится свидетелем кровавого преступления. Сможет ли он спасти малолетнего сына убитой женщины от преследования бандой албанских боевиков? Ведь Шелдон — старик, не знает норвежского языка и не ориентируется в новой для него стране.
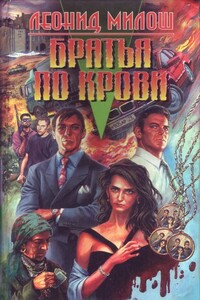
Это конец. Он это понял. И последняя его мысль лихорадочно метнулась к цыганке, про которую он уже совсем забыл и которая неожиданно выплыла в памяти со своим предсказанием — «вы умрете в один день». Метнулась лишь на миг и снова вернулась к Маше с Сергеем. «Простите меня!..»***Могила смотрелась траурно и величественно. Мужчина взглянул на три молодых, улыбающихся ему с фотографии на памятнике лица — в центре девушка, обнимающая двух парней. Все трое радостные, участливые… Он глубоко вздохнул, попрощался со всеми тремя и медленно побрел обратно к машине.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
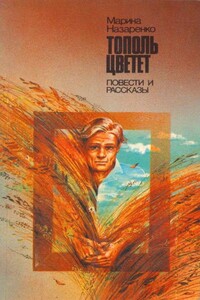
В книгу Марины Назаренко вошли повести «Житие Степана Леднева» — о людях современного подмосковного села и «Ты моя женщина», в которой автору удалось найти свои краски для описания обычной на первый взгляд житейской истории любви немолодых людей, а также рассказы.
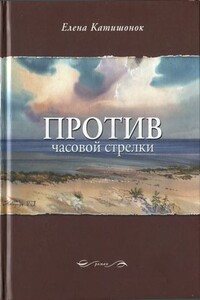
Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.
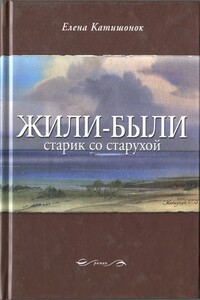
Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.
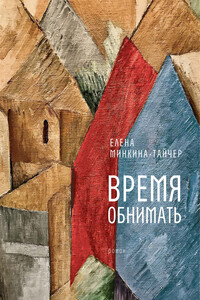
Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.
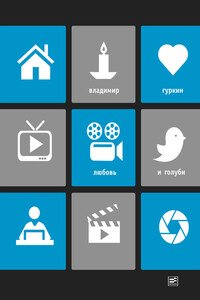
Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)