И я там был - [4]
– Саня, – бывало, говорю я Сане, мотористу, нашему общему дружку, – знаешь, как природа Пецу создавала?
Пеца уже ухмыляется.
– Берет природа дубовый пень, обрубает его топором кой-как, дай, думает, выпью. Выпивает она рюмашку, смотрит на пень: чего с ним возиться? И пихнула его ногой на Камчатку.
Пеца говорит:
– Ты про нос, про нос расскажи.
– Ну как же! Вспоминает природа про нос: ах ты, батюшки, забыла! А готового-то носа у нее и нет. Ну, снимает она с себя ботинок разношенный – и пошел Петр Федорович с ботинком вместо носа, как Лев Толстой.
– Слышь, Сань, – излагает Пеца свой вариант, – а природа знаешь как Лексеича делала? Ну, ложит глину, лепит глаза, рот, все это, нос, чин-чинарем. А потом забыла и села на него. И вышел Ксеич.
Вот в один из описанных вечеров мы с Пецей и познакомились. Представлялся он с достоинством прямо джентльменским: «Петр, – сказал он, пожав мне слабо руку. – Можно Петя». Присел на край койки, облокотился значительно о колено, но помалкивал недолго, и в тот же вечер началась наша дружба.
На работе мне время от времени говорили:
– Ну что вы, Евгений Алексеевич, связались с этой компанией, с Кузиным? Человек вы как будто умный, а ведь это же молокососы, пьяницы, драчуны. Кузин уже сидел в КПЗ за драку, вы знаете об этом?
– Разумеется, – отвечал я солидно, – но ведь кому-то надо же с ними заниматься? Мы довольно часто беседуем – и на исторические темы, и на художественные…
Вспоминаю один такой «художественный» разговор. Они с Саней пришли из клуба, «с картины». Ну, поболтали, посидели, вижу, Пеца какой-то загадочный, многозначительный. Явно хочет чем-то удивить.
– Алексеич, – наконец сообщает он, – а я роман сочинил.
– Да ну! – удивляемся мы с Саней. – Дай почитать.
– Да он у меня в уме.
– Ну расскажи.
– Смеяться будешь.
– Как хоть называется?
– «Черный ужас».
– Ух ты!
– Смеешься?
– Да рассказывай, не томи.
– В общем так. Жил один пацан, ну, бедный, сирота. Родители умерли – он еще маленьким был. Ну, копеек нет, жрать надо, а жил он под мостом, в общем хреново. Туда-сюда, и попал он в одну шайку, начинает воровать. И накрывает их полиция. Но он убегает. За ним менты гонятся, овчарки – а он раз, и зашуровал в лес. Ходит там суток пять, жрать охота, и вдруг видит – хата. Он заходит, а там сидит один старик, белый-белый, сидит, держит нитку и смотрит на свечку. Ну и он объясняет пацану этому, что если держать так нитку и смотреть на свечку, то через год будет шкура. Причем смотреть и не моргать.
– Что будет?
– Ну шкура, кожа такая человеческая. В ней дырки – только где глаза и хавальник, а так – ее ни пуля, ни нож, ничего не берет, если надеть. Ну, старик умирает, пацан этот набирает консерв, жратвы и садится. Проходит год – шкура готова. Он ее надевает и идет в город. Заходит в магазин, прибарахлился, заделался джентльменом – в общем все в норме.
И вот по городу пошел ужас: как ночь – так кража. Его хотят застукать, а он и не скрывается. Идет, понял, в черной маске, в черном костюме, открыто. Они стреляют – а ему хоть бы хрен: идет, понял, и улыбается. А на груди у него, это еще когда он костюм шил, светящимися буквами надпись: «ЧЕРНЫЙ – УЖАС»!
Не меньше часа шла эта вдохновенная импровизация, причем Пеца от души переживал каждое приключение своего неуязвимого героя. Саня сидел, слушал, на меня поглядывал: тоже, мол, и мы не лыком…
– Ну-ну, – говорили мне на работе. – Это, конечно, ваше дело. Только смотрите, как бы Петька вам в глаз не заехал.
Ибо скандалист был Пеца на весь поселок. Не по натуре скандалист, а по зеленому пьянству. Пил он много и плохо, быстро пьянел и становился задирист и глуп. Драться он дрался не больше других, но шуметь шумел, это точно. А поселок наш небольшой и на отшибе, все мелкие происшествия превращаются в большие события. И Пеца только и попадал из одного события в другое.
Вот в ноябре, когда разгружали последние в навигацию пароходы, сгрузили тонн двадцать портвейна – к общей радости, а то все спирт да спирт. Ну и вечером, конечно, приходят Пеца и Саня-моторист, с портвейном, темные такие бутыли, по ноль-восемь, «огнетушители». Разогрелись, закусили и стали играть. У меня висела громадная политическая карта мира – кто быстрей отыщет загаданное место.
– Укажите-ка мне, государь мой Петр Федорович, – говорю я, – Абиджан.
Саня подсказывает:
– В Азии ищи.
– Замучаешься искать, – отвечает Пеца. – Он, наверное, в Африке.
Но при этом старательно ползает по Азии.
– Что ж, государь мой, – говорю я через пять минут, – ваше время истекло. Давай, Петенька, под кровать, спой нам что-нибудь.
– А где Абиджан?
Я показал. Пеца моментально взъелся:
– А я что говорил? «В Азии, в Азии», – пускай Санечка лезет под кровать, не будет под руку, сука, подсказывать.
– Тебя никто слушать не просил.
– Лезь, Санечка, лезь.
– Замучаешься ждать!
– Лезь, Саня, до трех считаю. Раз!
– Замучаешься считать!
– Два!.. Три!
Пеца кидается на Саню, и начинается дикая свалка. Бах! – ведро пустое загремело. Бах! – книги со стола, а битюгов таких разве разведешь? Уже у Сани слива под глазом, на Пеце рукав распущен, кряхтят на полу, идиоты. Наконец слышу:
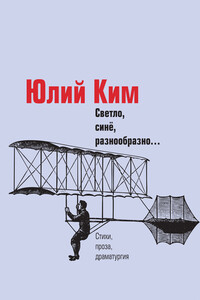
«Горе от ума», как известно, все разобрано на пословицы и поговорки, но эту строчку мало кто помнит. А Юлий Ким не только вспомнил, но и сделал названием своего очередного, четвертого в издательстве «Время» сборника: «Всё что-то видно впереди / Светло, синё, разнообразно». Упор, заметим, – на «разнообразно»: здесь и стихи, и песни, и воспоминания, и проза, и драматургия. Многое публикуется впервые. И – согласимся с автором – «очень много очень человеческих лиц», особенно в щемящем душу мемуаре «Однажды Михайлов с Ковалем» – описанием странствий автора с великими друзьями-писателями на том и на этом свете.

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.
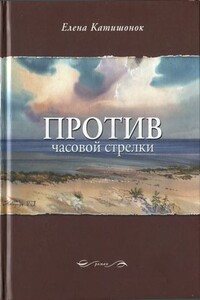
Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.
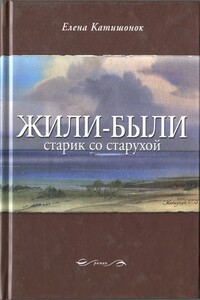
Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.
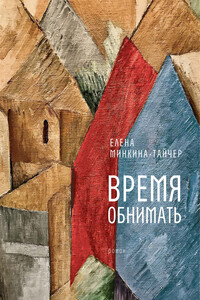
Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.
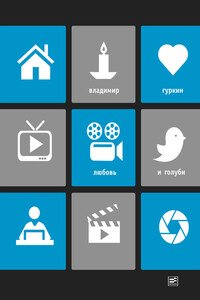
Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)