И я там был - [2]
Теперь он чистил, и драил, и смазывал, и пачкался в масле, и втискивал шомпол в округлые холодные стволы, поворачивал его, вытягивал и любовался на свет зеркальными сдвоенными канальцами.
Теперь он рубил пыжи, насыпал мерками порох, дробь, картечь, пыжевал, протягивал раздутые гильзы, набивал капсюля… Шестнадцатый калибр… Нулевка… тулка… – ф-ф, приятно!
Все же это была игра, предвкушение. Он мило важничал, но иногда подумывал: будет ли хорошо? И потом – пацаны, ответственность, запахло м-е-р-о-п-р-и-я-т-и-е-м. Но когда они маленьким отрядом с торчащими ружьями вышли за поселок, в тундру, Шурик счастливо задышал и расправился весь, словно раньше дома и улицы стесняли в плечах. И он, оживленно озираясь, радостно видел себя: невысок, суховат, вовсе не мямля, напротив, ладненький паренек, в кепке набекрень, в штормовке, тельник полосками отчеркивает шею, пригнанные резиновые сапоги так и подхватывают тело снизу, на спине плотный, компактный рюкзак, на нем четыре кармашка, прочные ремешки и металлические пряжки и застежки.
А через два часа сопки казались по-прежнему недосягаемо близкими, поселок же давно скрылся за склоном берега, кругом – тундра, болотца, полуболотца, высохшие болотца, и самое надежное место, где не вязнешь, мягко, как диван, – попробуй пройди полдня по одним диванам. Было жарко, и комары, комары. Прозрачное зудящее облачко все время висит перед глазами, мазь, смешанная с потом, течет по лицу, и комарье вцепляется в виски, в переносицу, в шею под шарф. Шурик шел теперь в зимней надвинутой на нос ушанке, наглухо завязанной под подбородком, шея закутана в шарф, рукава тельняшки распущены и навернуты пальцами на кулаки. Он шагал, бессознательно обходя топкие и выбирая надежные места. Сопки уже не были голубой мечтой, они стали безразличной, но навязчивой, неоспоримой целью, куда непременно надо дошагать этим мертвым, тяжелым шагом. Вокруг была летняя бархатная тундра с сияющими синими полосами озер, но она была и не проникала в сознание. Временами Шурик оглядывал ее, но не испытывал ничего, кроме непрекращающихся мерзких укусов в висок и шею.
– Александр Петрович, стойте, я вас сниму.
– Успеется.
– Вид у вас геройский.
– У тебя не геройский.
– Ох и комаров на вашем рюкзаке!
– На твоем мало.
Зеленая поляна, видимо, твердо, вперед! – и тут же нелепыми, судорожными прыжками возвращаешься: болото. Другую такую поляну обходишь далеко сбоку, а соседний пацан идет по ней, как Иисус по воде: болото высохло.
Вот место как будто ровное – и попадаешь в царство больших травянистых кочек, напоминающих высокие парики, идешь и балансируешь по их податливым затылкам.
Шурик все же чувствовал, что его автоматическое шаганье неуклонно отодвигает за спину, туда, к поселку, километр, и еще километр, и еще. Потому что от ранее непрерывной линии сопок стали отделяться ближние и дальние вершины, общий голубоватый тон расползся в зеленые пятна кустарников, в серые потоки каменных осыпей, обозначились ущелья…
Можно завести разговор, но через две-три фразы он опротивеет, как жвачка.
Легче идти, намечая маленькие цели: вот дойду до той кочки; дошел. Теперь до того кустика. Теперь до той кочки.
Временами имеет смысл оглядываться на пройденный путь: я был возле того куста, а его уж и не видно.
Или считать шаги, но так и вовсе отупеешь.
– Александр Петрович, полпути ведь мы прошли, да?
– Как же, как же. Осталось еще полпути, потом еще полпути, а там совсем немножко.
– А сколько мы уже идем?
– У меня часы встали.
Приближается поперек пути широкая зеленая река кустарников. Кусты сцепились кривыми пальцами, скрюченными локтями в одну непроходимую массу и по уши заросли высокой летней травой. Сняв, чтоб не цеплялось, ружье, сгорбившись, вкатываешься ежом в колючую душную непролазность, медленно-медленно продергиваешься сквозь нее – и комары, комары…
У подножья хватило сил поджечь на поляне пышный остров кедрача и рухнуть в хвойную удушливую струю потянувшегося дыма. Комары отстали. Рядом падали подходившие спутники.
Шурик лежал и вяло думал, что вот он – учитель, что следовало бы не показывать усталости и готовить ночлег, что вон Колька или там Юрка уже возятся с костром, а он лежит. Ну ничего, еще минутку-другую, ничего, ничего…
Отлежавшись, он встал, сбросил рюкзак и с тем же молчаливым отупением полез через кусты подножья вверх. Кедрач на склонах стелется книзу, по его гладким иглам легче спускаться, чем подниматься навстречу им. Крючковатые стволы перепутались, сучья с мгновенным треском обрывались под ногами. Шурик двигался рывками через кусты и все вверх; кусты кончились, стало круче; сильно задул ветер. Начались камни, теперь они одни до самой вершины. Близкая, острая, она начиналась перед самым носом, впиваясь в вечернее небо и закрывая от глаз неизвестную страну – осталось несколько минут ходу до верха.
Шурик упорно смотрел только под ноги и вверх, стараясь задержать в себе то чувство механического передвижения, какое было внизу, в тундре. Но, как трудно задерживать вдох, так и ему все больше хотелось обернуться: он всей спиной ощущал страшные просторы позади себя, и они, с каждым рывком наверх становясь огромнее, словно докидывали его на вершину. Одно только сердце гремело по всему телу, он часто приостанавливался, но подниматься все же было легко из-за этой мощной поддержки открывающихся позади пространств. Камни иногда выскальзывали из-под рук или ног и долго кувыркались вниз, но Шура смотрел только перед собой и вверх.
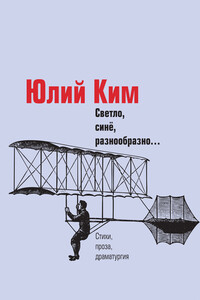
«Горе от ума», как известно, все разобрано на пословицы и поговорки, но эту строчку мало кто помнит. А Юлий Ким не только вспомнил, но и сделал названием своего очередного, четвертого в издательстве «Время» сборника: «Всё что-то видно впереди / Светло, синё, разнообразно». Упор, заметим, – на «разнообразно»: здесь и стихи, и песни, и воспоминания, и проза, и драматургия. Многое публикуется впервые. И – согласимся с автором – «очень много очень человеческих лиц», особенно в щемящем душу мемуаре «Однажды Михайлов с Ковалем» – описанием странствий автора с великими друзьями-писателями на том и на этом свете.
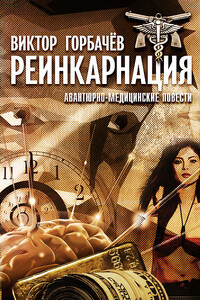
«Надо жить дольше. И чаще,» – сказал один мудрый человек.Трудно спорить. Вопрос в другом: как?!И создатель вроде бы от души озаботился: ресурсы органов и систем, говорят, на века пользования замыслены…Чего же тогда чахнем скоропостижно?!«Здоровое, светлое будущее не за горами», – жизнеутверждает официальная медицина.«Не добраться нам с вами до тех гор, на полпути поляжем», – остужают нетрадиционщики. «Стратегия у вас, – говорят, – не та».Извечный спор, потому как на кону власть, шальные деньги, карьеры, амбиции…И мы, хило-подопытные, сбоку.По сему видать, неофициальная медицина, как супротивница, по определению несёт в себе остроту сюжета.Сексотерапия, нейро-лингвистическое программирование (гипноз), осознанный сон, регенерация стволовыми клетками и т.
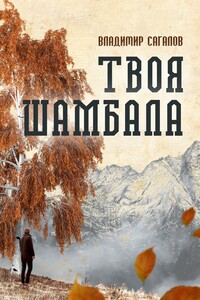
Как найти свою Шамбалу?.. Эта книга – роман-размышление о смысле жизни и пособие для тех, кто хочет обрести внутри себя мир добра и любви. В историю швейцарского бизнесмена Штефана, приехавшего в Россию, гармонично вплетается повествование о деде Штефана, Георге, который в свое время покинул Германию и нашел новую родину на Алтае. В жизни героев романа происходят пугающие события, которые в то же время вынуждают их посмотреть на окружающий мир по-новому и переосмыслить библейскую мудрость-притчу о «тесных и широких вратах».

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.
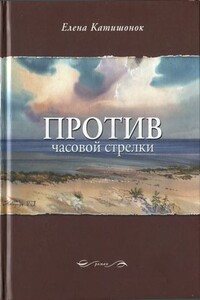
Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.
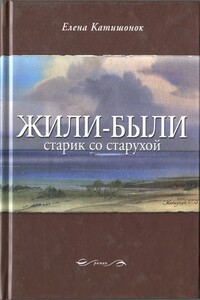
Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.
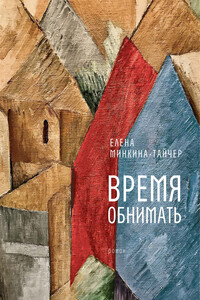
Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.
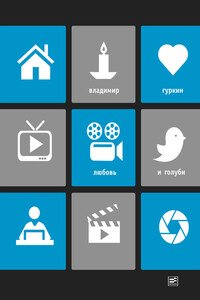
Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)