И я там был - [6]
Вот раз ночью, в апреле, я уже спать лег, слышу – стучат. Потом кто-то входит, я не запирался никогда, осторожно трясет за плечо: «Алексеич, спишь?». Пеца. «Чего тебе?» – «Айда купаться». – «Ты что, спятил?» – «Айда, успеешь еще наспаться, ночь знаешь какая? Красота!» – «Иди ты…» – «Да пойдем, Алексеич, разик искупнемся и конец, все равно не спишь». Вижу – не отстанет, и спать не даст.
Вышли на берег. Пеца миролюбив и дружелюбен ко всему: оглядывается, хмыкает, вздыхает. Ночь на самом деле – оглушительно хороша. Луны нет, но от снега какая-то мягкая ясность, удивительная тишина, воздух нежный, тающий, океан абсолютно тих, только у берега бурчит еле слышно.
Пеца закряхтел, задышал – весь беленький, босиком по скользкому береговому льду шлепает к краю и голеньким ангелочком спрыгивает на полоску черного песка, открывшуюся по отливу.
Эх, думаю, а не искупаться ли и мне?
Разделся. Чудеса! Не жарко, разумеется, но и не холодно – прохладно, и все. Чистая, полезная прохлада.
Стою, белею у края воды. Пеца уже там – ахает, фырчит, взвывает, бьет по воде белыми в сумраке руками и наконец вылетает, обтекая каплями в снег – и к полотенцу.
Как вошел я в Тихий океан… Вода не холодна – вода люто студена, так студена, что сразу и не разберешь. Аж сверху на ней такая тонкая льдистая пленка.
Проделавши все то же, что и Пеца, только гораздо быстрее, выскакиваю и начинаю рядом с Пецей прямо-таки перепиливать, уничтожать себя жестким вафельным полотенцем. Чудесно!
Подрожали, отдышались, Пеца говорит: «Ну ладно. Пойду к Надюхе. Я ее звал, звал, она говорит: ненормальный. Чудачка. Ну пока, Ксеич, иди спи».
И вот представьте себе: небольшой светлый зал, несколько рядов стульев. Публики жидковато, какие-то домохозяйки. Перед стульями лавка, на ней Пеца. В президиуме трое, двоих я знаю: один из конторы, другой бригадир. Между ними – мужчина официальный, в черном костюме, при галстуке. Судья из района. В зале идет суд, Пецу судят. Неделю назад, ночью, в бараке пьяный Петр, отыскивая впотьмах Надькину дверь, наткнулся на какого-то паренька, который ему не понравился. Петр его повалил, избил – сначала руками, потом сапогами, причем старался по лицу, и по обыкновению безобразно орал. Надьки дома не было, зато проснулись соседи – и на следующий день всем бараком подали на Петра в суд.
Когда стали ему искать общественного защитника – кроме меня, желающих не нашлось.
Пеца был потрясен, всю неделю до суда бегал, метался, выдумывал планы один фантастичней другого – только бы не засадили.
Сейчас он сидел на скамье подсудимых, красный от позора и горя, не возражал и со всем соглашался.
Тут же был и избитый им паренек, который ничего не помнил, потому что сам тогда был пьян. Он был настолько смущен и растерян, что, когда его попросили сесть поближе, он засуетился и присел рядом с Петром. Судья сказал: «Успеете еще, молодой человек». Он покраснел и отсел.
Тут же была и Надежда. Лицо у нее было холодное и презрительное. Когда судья спросил ее об отношениях с подсудимым, она спокойно ответила, хорошо: «Мы с ним дружим».
Был там и Саня-моторист, с которым Пеца тогда выпивал. Он отвечал на вопросы торопливо и бестолково, часто повторяя: «Так что ничего такого не было».
Адвокат из района, прожженный краснорожий пьяница, как бы посмеиваясь, говорил о том, что по такой-то статье Кузина судить нельзя, а если применить другую, такую-то, то по ней следует всего только штраф. У него были невыспавшиеся глазки, и за версту несло одеколоном.
Я старался не волноваться, да где там. С самого начала у меня на языке висела окаянная фраза: «Поглядите на него!» с готовой интонацией сострадания и с жестом в сторону подсудимого. Я всячески ее избегал, но, когда дали слово, не выдержал.
– Поглядите на него, – сказал я, – ему всего двадцать, его очень рано предоставили самому себе и стали требовать от него умения жить. Кто ему помогал? Кто о нем заботился? Его только наказывали и ругали. Кузин дебошир, Кузин хулиган – вот все, что о нем знают. Но кому известно, что Кузин еще и страстный книголюб – поглядите на его формуляр в библиотеке. Что Кузин выписывает «Технику молодежи» и увлекается вопросами звездоплавания. Что Кузин, если товарищу надо помочь – дров ли нарубить, уголь перетаскать – первый приходит и помогает. Кому известен другой, хороший Кузин? Никому. А он есть. И если мы не хотим его уничтожить – что угодно, только не срок.
Ну и так далее.
Когда Пеце дали последнее слово, он встал и сказал:
– Что я могу сказать? Все это будет мне хорошим уроком. То, что случилось, больше не повторится. Пить – слово даю, брошу. Если можно, прошу не давать мне срока.
Суд приговорил его к году условно.
После суда Пеца подошел ко мне и крепко сжал руку. Я хотел было позвать его к себе выпить на радостях, но удержался.
Дней через десять, утром, врывается Пеца:
– Можно тебя на пять минут?
– В чем дело?
– Сперва скажи: можно или нет? – и смотрит почти угрожающе.
– Ну, можно.
– Идем.
У него дома грязь, развал, табачный дым, на полу мешок и чемодан здоровый. Он садится на кровать, закуривает:
– Я уезжаю.
– Что такое?
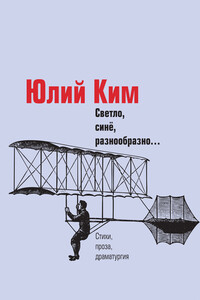
«Горе от ума», как известно, все разобрано на пословицы и поговорки, но эту строчку мало кто помнит. А Юлий Ким не только вспомнил, но и сделал названием своего очередного, четвертого в издательстве «Время» сборника: «Всё что-то видно впереди / Светло, синё, разнообразно». Упор, заметим, – на «разнообразно»: здесь и стихи, и песни, и воспоминания, и проза, и драматургия. Многое публикуется впервые. И – согласимся с автором – «очень много очень человеческих лиц», особенно в щемящем душу мемуаре «Однажды Михайлов с Ковалем» – описанием странствий автора с великими друзьями-писателями на том и на этом свете.

Не повезло казачьему хутору Большой Набатов, когда в нем обосновались переселенцы из России Рахмановы…

Сельчане всполошились: через их полузабытый донской хутор Большие Чапуры пройдут международные автомобильные гонки, так называемые ралли по бездорожью. Весь хутор ждёт…

Под Новый год в глухом задонском хуторе оказались несколько нестарых мужчин — сельчане, подавшиеся в город, вернулись погостить на родину. И началась буйная молодая гульба…

Хотелось бы найти и в Калаче-на-Дону местечко, где можно высказать без стеснения и страха всё, что накипело, да так, чтобы люди услышали.

В конце зимы пришла из поселка весть: умерла соседка, тетка Фрося. И вспомнилось автору, какой она была…

Из города в родной хутор наведался Вася Колун, молодой, да неустроенный мужик. Приехал сытым, приодетым — явно не бедовал. Как у него так вышло?
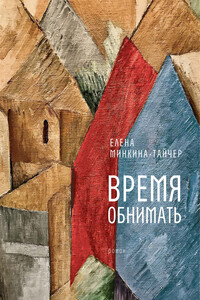
Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.
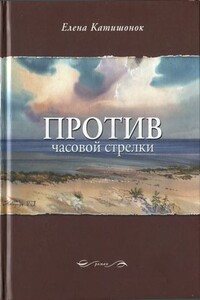
Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.
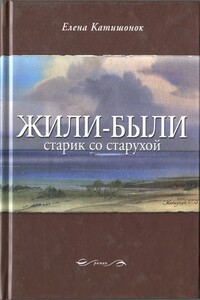
Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.
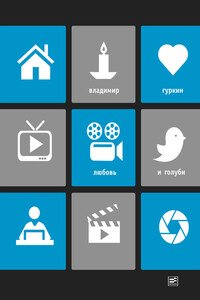
Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)