И я там был - [7]
– Я должен перед тобой извиниться: я скот перед тобой и Надюхой. Ты ей это скажешь.
– Да в чем дело?
Он словно и не слушает:
– Замазать хочешь? – и наливает полстакана спирта.
– Нет, не хочу.
– Ну, черт с тобой, – и выпивает.
– Кончай психовать, говори, что натворил.
– Вчера в том бараке я опять окно выбил. По пьянке. Они кричат, что я угрожал зарезать кого-то там, брешут, суки, они мне все там даром не нужны, мараться об них… Но все равно: был год условно – теперь будет безусловно. Только вот им, а не год!
– Да-а-а…
– Пароход сейчас отходит, в Питер – проводишь? В Питере у меня кореш один есть… как-нибудь… А, все чепуха, только бы уехать отсюда, хоть к чертовой бабушке, только бы уехать! Проклятый комбинат, проклятый спирт, все проклятое! В задницу! Идем.
На пирсе, прощаясь, сказал опять:
– Значит, Надюхе передашь? Я ей напишу. Ну все, пока.
Ночная погоня
Что нет людей одинаковых – истина довольно пошлая, но весьма удобная для бойкого пера. Нынешние комсомольские борзописцы ужасно любят ее доказывать. «Это был, – коварно начинают они, после того как “впервые я увидел его…”, – это был обыкновенный молодой человек…» В конце концов оказывается, что он грудью заслонил скотный двор и что герои среди нас, и опять несчасную старуху Изергиль вытаскивают на свет божий докладывать, что в жизни всегда есть место подвигу.
И однако даже тот, кто полностью усвоил, что каждый человек по-своему неординарен, узнав нашего Толика, воскликнул бы: «Вот необыкновенный человек!» – и мир для него разделился бы на Толика и «остальных», ибо Толик наш Федоров был действительно человек редкостный.
Если вы, например, впервые прибыли в Аначики и, плача, стоите на пирсе посреди мешков и узлов, не зная, куда идти, и помирая от усталости, – ваше счастье, если на вас наткнется Толик. Мгновение – и весь ваш скарб вместе с вашей жалкой личностью святым духом перенесется к нему, к Толику. А он уже, глядишь, занят печкой, чаем, всяческой жратвой. Бах – и вы сыты. Трах – и вы уже в постели, где, бормоча, как заклинание, «спасибо», «извиняюсь», засыпаете мертвецки – а Толик уже сидит за столом и печатает фотокарточки для стенгазеты.
Если же вы, наоборот, уезжаете, а вас провожает Толик, то можете равнодушно пнуть свои мешки с узлами ногой и идти выпивать с друзьями – узлы ваши тут же уплывут на Толике в узкие коридоры вокзалов сквозь непроходимую толпу и доплывут в сохранности до вагона, а сам Толик в очереди целующихся с вами будет последним – чтобы не мешать. А когда подойдет его очередь, он поцелует и шепнет: «Пойди к мамке, видишь – чуть не плачет».
Спортивный, легкий, улыбающийся ангел, святая душа – наш Толик. Ел только в столовой и то не всегда – дома же за стол его не усадишь: «Да я уже, ей-богу, такой борщ сегодня, знаешь!» – «Да столовая-то сегодня закрыта». – «И потом у нас в буфете пирожков ка-ак купил! С повидлом, горяченькие – эх!» И вдруг залотошится-залотошится – и нет его, исчез.
Когда входишь к нему в его каморку, он вскакивает и начинает быстро-быстро бегать вокруг – махнет веничком, сто раз подвинет стул, сгребет ногой под кровать какой-то мусор, носки, туфли. «Да брось ты, Толик! Я же тебе не премьер-министр». – «Сейчас, сейчас, – наконец сел, улыбнулся. – Вот, елки, вчера подметал – откуда набирается?»
Меня даже иной раз бесило это ангельское абсолютное забвение себя… «Толик, айда в кино». – «Не могу, стенгазету надо». – «Толик, айда выпьем». – «Не могу, киномеханик просил помочь». – «Толик, айда…» – «Не могу, я должен…» Никто не должен, он должен.
Очень! Очень приятно делать людям добро, да не всегда хочется. Но нам постоянно хотелось Толика облагодетельствовать. Не умеющие так, как он, – мы любили его отечески. Являешься к нему в компании друзей, вооруженных топорами, Толик выпархивает на крылечко: «Ой, братцы, да вы что?» – «А ништо. Это твои дровишки?» – «Да не надо! Да я сам! Да вы бы лучше…» – «Ладно, ладно, – говорит Саня, – закрой свой хлебоприемник». – «Лучше сбегай вон за пузырьком», – добавляет Пеца и протягивает трешку. И такое у Толика на лице изумление, что, оказывается, не только он о человечестве, но и человечество о нем может озаботиться, что даже обидно.
Была одна история, которую Толик терпеть не может вспоминать. Вечером в субботу я сижу, читаю; вдруг – топот, вваливаются Саня и Пеца, у обоих на лицах торжественный гнев: «Айда к клубу, там Толика избили».
Дивная ночь стояла, камчатская полнокровная ночь: луна, скрипящий снег, нежнейший воздух, одуряющая чистота и тишина. Все под ясной луной одинаково красиво, даже грязь. А море – черт возьми, море… это какой-то гипноз красоты и задумчивости, а не море – и все вокруг заворожено какой-то одной неслыханной нотой, которую тянет луна, а нам не слышно. Лучшие побуждения, высокие помыслы и чистую любовь порождает такая ночь в человеке.
Мы же мчались по улице, исполненные самого благородного желания набить морду.
Навстречу медленно движутся человек десять, в основном дамы: Толика провожают до больницы. Он рукой прижимает правый глаз, из-под пальцев капает.
– Кто?
– Шинкаренок Лешка.
– За что?

«Горе от ума», как известно, все разобрано на пословицы и поговорки, но эту строчку мало кто помнит. А Юлий Ким не только вспомнил, но и сделал названием своего очередного, четвертого в издательстве «Время» сборника: «Всё что-то видно впереди / Светло, синё, разнообразно». Упор, заметим, – на «разнообразно»: здесь и стихи, и песни, и воспоминания, и проза, и драматургия. Многое публикуется впервые. И – согласимся с автором – «очень много очень человеческих лиц», особенно в щемящем душу мемуаре «Однажды Михайлов с Ковалем» – описанием странствий автора с великими друзьями-писателями на том и на этом свете.

Драматические события повести Петра Столповского «Волк» разворачиваются в таёжном захолустье. Герой повести Фёдор Карякин – из тех людей, которые до конца жизни не могут забыть обиду, и «волчья душа» его на протяжении многих лет горит жаждой мести...
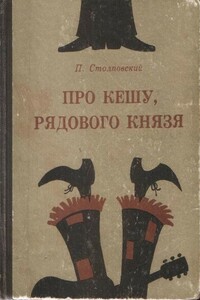
«Про Кешу, рядового Князя» — первая книга художественной прозы сытывкарского журналиста Петра Столповского. Повесть знакомит читателя с воинским бытом и солдатской службой в мирное время наших дней. Главный герой повести Кеша Киселев принадлежит к той части молодежи, которую в последние годы принято называть трудной. Все, происходящее на страницах книги, увидено его глазами и прочувствовано с его жизненных позиций. Однако событийная канва повести, становясь человеческим опытом героя, меняет его самого. Служба в Советской Армии становится для рядового Князя хорошей школой, суровой, но справедливой, и в конечном счете доброй.

Сюжет захватывающего психологического триллера разворачивается в Норвегии. Спокойную жизнь скандинавов всё чаще нарушают преступления, совершаемые эмигрантами из неспокойных регионов Европы. Шелдон, бывший американский морпех и ветеран корейской войны, недавно переехавший к внучке в Осло, становится свидетелем кровавого преступления. Сможет ли он спасти малолетнего сына убитой женщины от преследования бандой албанских боевиков? Ведь Шелдон — старик, не знает норвежского языка и не ориентируется в новой для него стране.
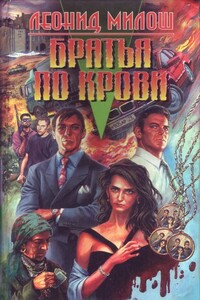
Это конец. Он это понял. И последняя его мысль лихорадочно метнулась к цыганке, про которую он уже совсем забыл и которая неожиданно выплыла в памяти со своим предсказанием — «вы умрете в один день». Метнулась лишь на миг и снова вернулась к Маше с Сергеем. «Простите меня!..»***Могила смотрелась траурно и величественно. Мужчина взглянул на три молодых, улыбающихся ему с фотографии на памятнике лица — в центре девушка, обнимающая двух парней. Все трое радостные, участливые… Он глубоко вздохнул, попрощался со всеми тремя и медленно побрел обратно к машине.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
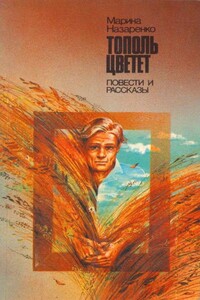
В книгу Марины Назаренко вошли повести «Житие Степана Леднева» — о людях современного подмосковного села и «Ты моя женщина», в которой автору удалось найти свои краски для описания обычной на первый взгляд житейской истории любви немолодых людей, а также рассказы.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)