Хаос - [41]
Хайнц злился на Ханка даже больше, чем на Бандмана. Надо же, сделал посмешище не только из себя, но и из него! По злому року еще угодил в адвокаты по его делу и подставил Хайнца своей конфузностью!
Хайнц мысленно поставил себя на место Ханка и представил себе, что бы он делал в его положении. Конечно, так застать себя врасплох он не позволил бы! И сбил бы спесь с этого заносчивого судьи! Но разве это решило бы проблему? Если какой-то субъект ведет себя неприлично, его всегда можно осадить, не касаясь глубинных вопросов. Однако Хайнц нюхом чуял, что за поверхностной перепалкой судьи и адвоката, за намеками и подколками скрывалось нечто серьезное. И дело не в пошлости шуток одного и не в отсутствии достоинства у другого, которого он лишился в глазах всех присутствующих.
С другой стороны, как смог бы Ханк защитить свою позицию в смене фамилии и остального, с этим связанного, когда упреки ему были брошены совершенно серьезно, под каким бы злым соусом Бандман ни подавал их?
Его гнев немного улегся, когда Хайнц вспомнил жалкую тщедушную фигурку Ханка, узкое вялое лицо, крючковатый нос, бегающие глазки. Но кровь снова ударила в голову, стоило мысленно воспроизвести, как этот презренный человечишка корчился под безжалостными насмешками Бандмана. В конце концов, не станут ли Бандман и иже с ним смотреть на него самого так, как он сегодня смотрел на Ханка: с отвращением и пренебрежением?
Но разве эти люди имеют право столь надменно судить и осуждать с высоты господствующего большинства в государстве, которое поощряет смену религии? Его отец своим продвижением по службе обязан крещению, иначе он никогда не занял бы высокий пост. А то, что государство ставит непременным условием для карьерного роста, разве может считаться аморальным? И сколько еще он знает людей, нравственно перешагнувших через всяческие сомнения на этом пути!
Вполне возможно, что случай Кана-Ханка в корне отличался от его случая и от известных ему. Наверное, так и было, как сказал этот Борух: Кан происходил из семьи правоверных евреев, много знал об иудаизме, о еврейских обычаях и нравах — и все-таки, ломая себя, сделал тот шаг, отрекся от своего прошлого.
А он, Хайнц Ленсен? Чему изменил он? Какие узы порвал? Ничего иудейского он в жизни не видел, предков не знал, пусть даже в доме чтили память об отце его матери. Дедушкин портрет висел в столовой, и в свое время история его восхождения от бедного учителя-иммигранта к крупному капиталисту производила на мальчика впечатление. В семье не соблюдали никаких еврейских традиций и, можно сказать, не терпели их. Евреи, вхожие в родительский дом, по манере поведения ничем не отличались от других гостей. Разве что доктор Магнус… Но и тот не произнес ни слова, которое не могло бы сойти с уст какого-нибудь христианского теолога. Возможно, в христианской компании этого требовало чувство такта! Принадлежность к своему народу некоторым образом доходила до сознания еврейских детей лишь через тот факт, что они освобождались от уроков закона Божьего — во всяком случае, в старших классах — и не посещали церковь вместе с другими.
В синагоге Хайнц был лишь однажды — на праздновании бат мицвы своей сестры. Подготовку к этому событию они любили оба, правда, от тех уроков у него остались смутные этические нормы, распадающиеся на пункты а), б) и в).
Так что он ни от чего не отрекался, когда порвал с иудейством. Он не совершил ничего бесчестного, когда менял имя, напротив, он отказался от фамилии Левизон как метки еврея, чтобы никого не вводить в заблуждение. По существу, до сих пор именно так и происходило; о нем создавалось ложное впечатление, его идентифицировали с общиной, с которой он не имел ничего общего.
Другое дело Ханк!
Хотя вполне может быть, что молва к Ханку несправедлива и дело совсем в другом. А что, если Ханк как раз из знания иудаизма повернулся к нему спиной? Что, если он отрекся от иудаизма на основании глубоких исследований?
В то время как он, Хайнц, сделал своей шаг без раздумья и собственного суждения. Он ведь совершенно беспечно последовал за отцом подавать заявление в суд. Не выглядел бы он тогда еще отвратительнее, чем Ханк сегодня, если бы ему учинили основательный допрос о причинах его намерений? Что бы он на это ответил?
Странно! Насколько Хайнцу было известно из еврейской истории, во все времена крещение открывало еврею путь к свободе, и на протяжении столетий тому, кто держался за иудаизм, грозили смерть и страдания. Как вообще еще остались иудеи!
То, что слабо и боязливо, то, что не наполнено сильной жизненной энергией, должно было уже тогда отмереть. И более того, если кто-то в роду, хоть один-единственный, поддавался соблазну новой религии, то вместе с ним отлучались от иудаизма и все следующие колена, и навеки вычеркивались из еврейского племени.
В новые времена поистине спаслись только избранные по силе и мужеству.
Хайнц замер как вкопанный, когда его осенила эта идея.
Но ведь это же аристократизм! Аристократизм в лучшем смысле слова!
Что против этого Штюльп-Зандерслебены, сводящие свой аристократизм к какому-то крестоносцу, аристократизм, который им всегда только торил дороги. Когда у этих аристократов была возможность проявить себя в бедственном положении? Когда мужество могло обнаружить себя у этих аристократов?

Кабачек О.Л. «Топос и хронос бессознательного: новые открытия». Научно-популярное издание. Продолжение книги «Топос и хронос бессознательного: междисциплинарное исследование». Книга об искусстве и о бессознательном: одно изучается через другое. По-новому описана структура бессознательного и его феномены. Издание будет интересно психологам, психотерапевтам, психиатрам, филологам и всем, интересующимся проблемами бессознательного и художественной литературой. Автор – кандидат психологических наук, лауреат международных литературных конкурсов.

Внимание: данный сборник рецептов чуть более чем полностью насыщен оголтелым мужским шовинизмом, нетолерантностью и вредным чревоугодием.

Автор книги – врач-терапевт, родившийся в Баку и работавший в Азербайджане, Татарстане, Израиле и, наконец, в Штатах, где и трудится по сей день. Жизнь врача повседневно испытывала на прочность и требовала разрядки в виде путешествий, художественной фотографии, занятий живописью, охоты, рыбалки и пр., а все увиденное и пережитое складывалось в короткие рассказы и миниатюры о больницах, врачах и их пациентах, а также о разных городах и странах, о службе в израильской армии, о джазе, любви, кулинарии и вообще обо всем на свете.
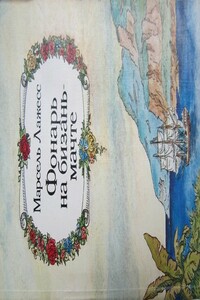
Захватывающие, почти детективные сюжеты трех маленьких, но емких по содержанию романов до конца, до последней строчки держат читателя в напряжении. Эти романы по жанру исторические, но история, придавая повествованию некую достоверность, служит лишь фоном для искусно сплетенной интриги. Герои Лажесс — люди мужественные и обаятельные, и следить за развитием их характеров, противоречивых и не лишенных недостатков, не только любопытно, но и поучительно.

В романе автор изобразил начало нового века с его сплетением событий, смыслов, мировоззрений и с утверждением новых порядков, противных человеческой натуре. Всесильный и переменчивый океан становится частью судеб людей и олицетворяет беспощадную и в то же время живительную стихию, перед которой рассыпаются амбиции человечества, словно песчаные замки, – стихию, которая служит напоминанием о подлинной природе вещей и происхождении человека. Древние легенды непокорных племен оживают на страницах книги, и мы видим, куда ведет путь сопротивления, а куда – всеобщий страх. Вне зависимости от того, в какой стране находятся герои, каждый из них должен сделать свой собственный выбор в условиях, когда реальность искажена, а истина сокрыта, – но при этом везде они встречают людей сильных духом и готовых прийти на помощь в час нужды. Главный герой, врач и вечный искатель, дерзает побороть неизлечимую болезнь – во имя любви.

Настоящая монография представляет собой биографическое исследование двух древних родов Ярославской области – Добронравиных и Головщиковых, породнившихся в 1898 году. Старая семейная фотография начала ХХ века, бережно хранимая потомками, вызвала у автора неподдельный интерес и желание узнать о жизненном пути изображённых на ней людей. Летопись удивительных, а иногда и трагических судеб разворачивается на фоне исторических событий Ярославского края на протяжении трёх столетий. В книгу вошли многочисленные архивные и печатные материалы, воспоминания родственников, фотографии, а также родословные схемы.

Повесть Израиля Меттера «Пятый угол» была написана в 1967 году, переводилась на основные европейские языки, но в СССР впервые без цензурных изъятий вышла только в годы перестройки. После этого она была удостоена итальянской премии «Гринцана Кавур». Повесть охватывает двадцать лет жизни главного героя — типичного советского еврея, загнанного сталинским режимом в «пятый угол».

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.