Горизонты исторической нарратологии - [82]
Вместо субъективного желания этос совести обнаруживает в основании личности интерсубъективную ответственность, которую следует отличать от сверхличного долженствования. Нравственное состояние ответственности – это диалогическая забота о другом: отвечает ли моя жизнь запросам другой жизни? интересен ли, важен ли я для нее? достоин ли я внимания или доверия?
Едва ли есть основания удивляться тому, что этос романистики Достоевского аналогичен этосу Евангелия. Однако здесь он манифестирован в рамках позднейшей вероятностной (а не прецедентной) картины мира.
Вероятностная картина мира до известной степени «синтезировала» в себе также и три стадиально более архаичные. Это наделило ее потенциалом их вторичной актуализации и породило целый спектр многообразия нарративных стратегий.
Так, трудноопределимая стратегия романа Гончарова «Обломов» разъясняется конфигурацией прецедентной картины мира (диегетическое время произведения организовано годовым солнцеворотом) и этоса желания. Первая, можно сказать, скондесирована в солнцепоклоннике Обломове, второй – в жтзненной энергии Штольца. А конструктивно двусмысленная концовка романа провоцирует читателя, открывая перед ним беспрецедентную для своего времени свободу истолкования[375].
С прецедентной картиной мира мы имеем дело также и в романах Тургенева, но в конфигурации с этосом долженствования: человек здесь – частица вечной (прецедентной) природы, а основной нарративный эффект – смирение перед нею. У Тургенева немало персонажей с яркой самостью, но их жизненный путь состоит в угасании этой индивидуальности или в угасании самой их жизни (Базаров).
«Мертвые души» являются романом с авантюрной картиной мира, но гоголевский этос при этом отнюдь не этос желания, но – совести:
А кто из вас, полный христианского смиренья, не гласно, а в тишине, один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит вовнутрь собственной души сей тяжкий запрос: “А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?”
Окказиональная (авантюрная) картина мира мотивирует событийность также и «Повестей Белкина», и «Героя нашего времени». Но роман Лермонтова при этом проникнут этосом желания, тогда как «Повести Белкина» в качестве циклического по форме художественного целого романного типа – этосом покоя[376].
Предельно глубоко и тонко разработанная вероятностная картина мира повествований Толстого и Достоевского, выдвинувшая их в свое время в лидеры мирового литературного процесса, различается своим этосом.
Толстовский нарратив организован этосом долженствования. Здесь повествователю всегда известна мера правоты героя, хотя он и не всегда высказывается о ней прямо. Зато часто приводит своих героев к осознанию надличностной нравственной истины. Вот как в изложении нарратора меняется чтение Анны, начинавшееся в интенции желания:
Герой романа уже начинал достигать своего английского счастия, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? Чего же мне стыдно? – спросила она себя с оскорбленным удивлением.
Очевидно, что подобных «гоголевских» вопросов, направляемых «вовнутрь собственной души», Толстой ожидал и от своего читателя. Однако стыд – в отличие от совести – не индивидуален («стыдно того же самого»), он возбуждается этосом долга.
У Достоевского вероятностная событийная цепь разворачивается, как уже говорилось выше, в интенции совести – солидарной ответственности за живое участие в борьбе мировых сил с «незаместимой» (Бахтин) позиции собственной «правды». Разумеется, терзания Раскольникова и по-своему благополучная концовка его истории способны навести на мысль о регулятивном этосе. Однако вспомним, что Раскольников в эпилоге не совершал притчевого выбора: Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. К тому же нарратор Достоевского акцентирует стратегическое отделение возможного последующего повествования (житийного типа) от завершенного романного: Но тут уже начинается новая история, история постепенного обновления человека […] но теперешний рассказ наш окончен.
Соглашаясь с Бахтиным, что у каждого героя Достоевского имеется «своя правда», полифонически сопрягаемая с другими правдами в «диалог согласия» без авторского «последнего слова», невозможно не признать, что и читателю оставляется аналогичная позиция. Но и разбегания альтернативных прочтений (порождаемого открытыми финалами Чехова) Достоевский не допускает. Так формируется нарративный эффект солидарности.
Нарративную стратегию, питаемую этосом совести (в противовес провокативной стратегии желания) можно квалифицировать как инспиративную стратегию откровения[377] – в той мере, в какой рассказывание способно инспирировать диалогическую позицию совместного прояснения смысла повествуемой истории «при свете совести»[378].
Что касается судьбы романного жанра в постсимволистскую эпоху, Мандельштам в значительной степени оказался прав. И так называемый «производственный роман» соцреализма, и проза Константина Вагинова, и «новый роман» Роб-Грийе, и большинство объемных произведений постмодернистской ориентации являются романами только в издательском смысле – не в жанровом. Речь в данном случае не идет о художественном качестве этой прозы – оно различно – только об утрате ею романного «позвоночника».

Исторический контекст любой эпохи включает в себя ее культурный словарь, реконструкцией которого общими усилиями занимаются филологи, искусствоведы, историки философии и историки идей. Попытка рассмотреть проблемы этой реконструкции была предпринята в ходе конференции «Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов», устроенной Институтом высших гуманитарных исследований Российского государственного университета и издательством «Новое литературное обозрение» и состоявшейся в РГГУ 16–17 февраля 2009 года.

Ни для кого не секрет, что современные СМИ оказывают значительное влияние на политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь общества. Но можем ли мы безоговорочно им доверять в эпоху постправды и фейковых новостей?Сергей Ильченко — доцент кафедры телерадиожурналистики СПбГУ, автор и ведущий многочисленных теле- и радиопрограмм — настойчиво и последовательно борется с фейковой журналистикой. Автор ярко, конкретно и подробно описывает работу российских и зарубежных СМИ, раскрывает приемы, при помощи которых нас вводят в заблуждение и навязывают «правильный» взгляд на современные события и на исторические факты.Помимо того что вы познакомитесь с основными приемами манипуляции, пропаганды и рекламы, научитесь отличать праву от вымысла, вы узнаете, как вводят в заблуждение читателей, телезрителей и даже радиослушателей.
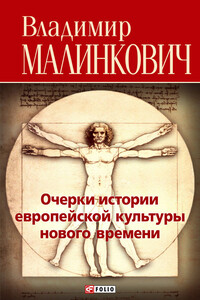
Книга известного политолога и публициста Владимира Малинковича посвящена сложным проблемам развития культуры в Европе Нового времени. Речь идет, в первую очередь, о тех противоречивых тенденциях в истории европейских народов, которые вызваны сложностью поисков необходимого равновесия между процессами духовной и материальной жизни человека и общества. Главы книги посвящены проблемам гуманизма Ренессанса, культурному хаосу эпохи барокко, противоречиям того пути, который был предложен просветителями, творчеству Гоголя, европейскому декадансу, пессиместическим настроениям Антона Чехова, наконец, майскому, 1968 года, бунту французской молодежи против общества потребления.

По прошествии пяти лет после выхода предыдущей книги «По Фонтанке. Страницы истории петербургской культуры» мы предлагаем читателям продолжение наших прогулок по Фонтанке и близлежащим ее окрестностям. Герои книги – люди, оставившие яркий след в культурной истории нашей страны: Константин Батюшков, княгиня Зинаида Александровна Волконская, Александр Пушкин, Михаил Глинка, великая княгиня Елена Павловна, Александр Бородин, Микалоюс Чюрлёнис. Каждому из них посвящен отдельный очерк, рассказывающий и о самом персонаже, и о культурной среде, складывающейся вокруг него, и о происходящих событиях.

Произведения античных писателей, открывающие начальные страницы отечественной истории, впервые рассмотрены в сочетании с памятниками изобразительного искусства VI-IV вв. до нашей эры. Собранные воедино, систематизированные и исследованные автором свидетельства великих греческих историков (Геродот), драматургов (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан), ораторов (Исократ,Демосфен, Эсхин) и других великих представителей Древней Греции дают возможность воссоздать историю и культуру, этногеографию и фольклор, нравы и обычаи народов, населявших Восточную Европу, которую эллины называли Скифией.

Сборник статей социолога культуры, литературного критика и переводчика Б. В. Дубина (1946–2014) содержит наиболее яркие его работы. Автор рассматривает такие актуальные темы, как соотношение классики, массовой словесности и авангарда, литература как социальный институт (книгоиздание, библиотеки, премии, цензура и т. д.), «формульная» литература (исторический роман, боевик, фантастика, любовный роман), биография как литературная конструкция, идеология литературы, различные коммуникационные системы (телевидение, театр, музей, слухи, спорт) и т. д.

В книге собраны беседы с поэтами из России и Восточной Европы (Беларусь, Литва, Польша, Украина), работающими в Нью-Йорке и на его литературной орбите, о диаспоре, эмиграции и ее «волнах», родном и неродном языках, архитектуре и урбанизме, пересечении географических, политических и семиотических границ, точках отталкивания и притяжения между разными поколениями литературных диаспор конца XX – начала XXI в. «Общим местом» бесед служит Нью-Йорк, его городской, литературный и мифологический ландшафт, рассматриваемый сквозь призму языка и поэтических традиций и сопоставляемый с другими центрами русской и восточноевропейской культур в диаспоре и в метрополии.