Эпоха добродетелей. После советской морали - [19]
Гуманистическое наследие мировой классики, конечно, следовало осваивать избирательно. Изначально подразумевалось, в частности, что из каждой национальной культуры должны быть отобраны только ее демократические и социалистические элементы в противовес буржуазным и националистическим. Огромную роль объективно сыграли попытки интегрировать классово откровенно иные культурные достижения – аристократического по происхождению античного героического эпоса, фольклора (той же сказки, мифа), дворянской или буржуазной культуры, не говоря уж о науке, технике и пр. Все это предполагалось освоить и подчинить новым целям. Например, «советские филологи-классики должны убедить советское общество в <…> нерасовой и неаристократической специфике произведений, легших в основу европейской, – а значит, и советской – литературы»90. Такие идеологи, как А. Луначарский, разъясняли необходимость правильного понимания соотношения классового и общечеловеческого в культуре. Последний утверждал, что демократические элементы в культуре прошлого не обязательно связаны с отражением в искусстве классовой борьбы трудящихся масс; что в культуре рабовладельческого общества эти элементы связаны с развитием рабовладельческой демократии и ее борьбы с рабовладельческой аристократией, а в эпоху Средневековья и Возрождения – с проявлением светских мотивов, отражением борьбы «земного» и «небесного», с защитой человеческих стремлений против аскетического, религиозно-мистического засилья. В итоге важным оказывалось и то искусство, «которое может не совпадать с нашим мировоззрением, но которое известной стороной с ним соприкасается»91.
Следует отметить, что гетерогенность советской морали на уровне этики добродетели была обусловлена отнюдь не только неоднородным содержанием культурных образцов, официально предлагавшихся для подражания. Для нее существовали объективные социоструктурные предпосылки. В 1920-х годах сильным оставалось влияние «старой» социальной среды (родительской семьи, общественного мнения жителей деревни, сверстников с улицы, церкви). Так, мигранты из деревни принесли в советские города традиции и крестьянскую культуру пассивного сопротивления, способную снизить эффективность действий властей по осуществлению социального контроля; повседневное экономическое поведение советских граждан нередко являлось формой их «уклонения» от государственного воздействия и контроля92. Пролетарские студенты, оказываясь в вузах с представителями других социальных групп, нередко копировали старую элиту, перенимая «буржуйские манеры», демонстрируя корыстные образцы поведения. Сама повседневность оказывала неоднозначное влияние: «Жизнь в тесноте, еда из одной миски, сон на общей кровати создавали из значительной части рабочей и крестьянской молодежи не поколение убежденных коммунаров-коллективистов, а людей с повышенными жизненными притязаниями, явно обозначенными достижительными жизненными стратегиями»93. В целом «введение командно-административной системы в СССР не означало исчезновения ни экономических законов, ни рыночных отношений, ни стремления людей самостоятельно решать свои проблемы»94. Надо также учитывать, что в период становления советского строя и позднее в ценностном и иных планах оставались альтернативы, откровенно внешние и отчасти враждебные по отношению к советскому проекту, некоторые из них прямо вели к формированию «двоемыслия», «притворства» и подобных им феноменов. Как отмечает О. Перова, «приспособляемость и способность мимикрировать формировались не только по отношению к религии и семейным ценностям. Нередко отношение „отстраненной вовлеченности“ относилось к коммунистическим организациям – в них вступали, чтобы оказаться в кругу успешных, а в 1930-е годы – чтобы не выделяться из коллектива»95. Мы уж не говорим о воздействии «самиздата» или зарубежной культурной продукции, попадавшей в СССР нелегально.
Так или иначе успех советского морально-культурного проекта зависел как от степени подчинения коммунистическим ценностям и целям многообразного содержания этики добродетели, так и от интеграции указанных выше иноклассовых культурных и иных образцов. Когда эта степень оказывалась сильной, ценности этики добродетели начинали светиться отраженным светом универсальных моральных ценностей коммунистического проекта или, в более широком его истолковании, ценностями гуманизма, прогресса, «красоты, добра, истины». В той мере, в которой эта степень оказывалась слабой и формальной, советская мораль и культура приобретали глубинное сходство с иными культурами – либо буржуазной, либо дворянской (наиболее близкой к этике добродетели в ее героической ипостаси). Носители претерпевших такую трансформацию вариантов советской морали начинали переоценивать значимость добродетелей, которым они были привержены, считать их самодостаточными. Однако, как выяснилось позже, сами по себе эти добродетели не смогли ни обеспечить воспроизводство советского морально-культурного проекта в его целостности, ни в достаточной мере поддержать в обществе авторитет «красоты, добра, истины». Иными словами, проблема заключалась даже не в том, что большевистская установка на формирование «нового человека» конкурировала со старыми влияниями, а в том, что содержание этого «нового человека» при детальном рассмотрении оказывалось лишь относительно «новым».
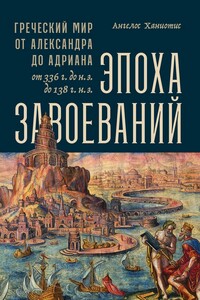
В своей новой книге видный исследователь Античности Ангелос Ханиотис рассматривает эпоху эллинизма в неожиданном ракурсе. Он не ограничивает период эллинизма традиционными хронологическими рамками — от завоеваний Александра Македонского до падения царства Птолемеев (336–30 гг. до н. э.), но говорит о «долгом эллинизме», то есть предлагает читателям взглянуть, как греческий мир, в предыдущую эпоху раскинувшийся от Средиземноморья до Индии, существовал в рамках ранней Римской империи, вплоть до смерти императора Адриана (138 г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На основе многочисленных первоисточников исследованы общественно-политические, социально-экономические и культурные отношения горного края Армении — Сюника в эпоху развитого феодализма. Показана освободительная борьба закавказских народов в период нашествий турок-сельджуков, монголов и других восточных завоевателей. Введены в научный оборот новые письменные источники, в частности, лапидарные надписи, обнаруженные автором при раскопках усыпальницы сюникских правителей — монастыря Ваанаванк. Предназначена для историков-медиевистов, а также для широкого круга читателей.
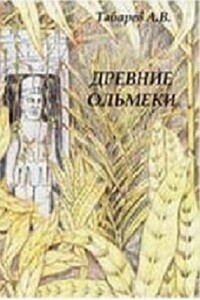
В книге рассказывается об истории открытия и исследованиях одной из самых древних и загадочных культур доколумбовой Мезоамерики — ольмекской культуры. Дается характеристика наиболее крупных ольмекских центров (Сан-Лоренсо, Ла-Венты, Трес-Сапотес), рассматриваются проблемы интерпретации ольмекского искусства и религиозной системы. Автор — Табарев Андрей Владимирович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Основная сфера интересов — культуры каменного века тихоокеанского бассейна и доколумбовой Америки;.

Грацианский Николай Павлович. О разделах земель у бургундов и у вестготов // Средние века. Выпуск 1. М.; Л., 1942. стр. 7—19.
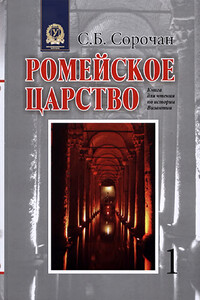
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.
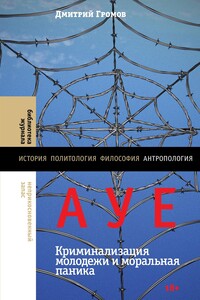
В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение, известное в медиа под названием «АУЕ», экстремистской организацией. В последние годы с этой загадочной аббревиатурой, которая может быть расшифрована, например, как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство», были связаны различные информационные процессы — именно они стали предметом исследования антрополога Дмитрия Громова. В своей книге ученый ставит задачу показать механизмы, с помощью которых явление «АУЕ» стало таким заметным медийным событием.

В своей новой книге известный немецкий историк, исследователь исторической памяти и мемориальной культуры Алейда Ассман ставит вопрос о распаде прошлого, настоящего и будущего и необходимости построения новой взаимосвязи между ними. Автор показывает, каким образом прошлое стало ключевым феноменом, характеризующим западное общество, и почему сегодня оказалось подорванным доверие к будущему. Собранные автором свидетельства из различных исторических эпох и областей культуры позволяют реконструировать время как сложный культурный феномен, требующий глубокого и всестороннего осмысления, выявить симптоматику кризиса модерна и спрогнозировать необходимые изменения в нашем отношении к будущему.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.