Долина павших - [72]
Молодой человек в темном наряде, усыпанном зелеными блестками, и с завязанными глазами стоит в центре хоровода; в руке он сжимает большую деревянную ложку. Картина запечатлевает тот миг, когда юноша, чуть наклонясь, на ощупь водит в воздухе ложкой, а дама в белом и опустившийся на одно колено кавалер стараются не попасть ему под руку. Минуту назад, а может, несколько минут спустя (один из моментов галантного, изысканного, длящегося много дней подряд карнавального празднества) двинутся в танце эти взявшиеся за руки фигуры, справа налево, под звуки курантов, отзванивающих последние часы целой эпохи.
Совершенно очевидно, что все персонажи «Игры в жмурки» одеты в новенькие, с иголочки, сшитые по размеру маскарадные костюмы. Все они, как бы теперь сказали, представители золотой молодежи, разряженные под чернь — так одета толпа, совершающая утром паломничество к чудотворному источнику. Они разоделись так ради собственного удовольствия, а может быть, собираясь позировать художнику. В любом случае они выступают актерами в этом не слишком хорошо заученном фарсе, которого, по-видимому, ни они сами, ни Гойя как следует еще не понимают. Осознав их подлинное положение, положение актеров в театре своего столетия, мы замечаем и искусственность пейзажа. Дон Кихот преобразовал селения и просторы Кастилии в землю, рожденную его фантазией. На заднем плане некоторых своих конных портретов Веласкес пишет не загородную резиденцию Каса-де-Кампо, но шпалеру, которая копирует небеса и рощи этой резиденции. Акация, водоем, горы, трава и облачка — все это лишь рама, в которую оправлены фигуры, исполняющие танец с ложкой: картина в картине, сюжет на фоне trompe l’oeil[98], потому что на первый взгляд, пожалуй, можно подумать, что тут представлена живая природа, а не ее изображение на заднике, подобное декорации к какому-нибудь сайнете.
«Гойя отходит от своих тем» — так озаглавил Ортега одну из глав незаконченной книги. Август Майер в свою очередь замечает, что картонам Гойи, в том числе и «Игре в жмурки», не хватает главного персонажа. Ювелиру ни к чему быть излишне пристрастным, уточняет Ортега. Несомненно, Гойю, наблюдающего свое время, гораздо больше интересует смысл эпохи, чем отдельные ее персонажи. Позднее, погрузившись в глухоту, он инстинктивно приблизится к этим фигурам, словно бы потерял не слух, а зрение. Однако в этом последнем заказе Королевской шпалерной мануфактуры Гойя смотрит на девять пляшущих фигур со стороны, и они представляются ему куклами или марионетками. Он на свой лад обнажает их, но не судит при этом, а со стороны наблюдает за их легкомысленной игрой. В конце концов, как пишет сам Гойя Сапатеру, в наше время даже короткий срок, отпущенный нам, надо прожить как можно лучше.
Здесь, на берегу водоема, где играют в жмурки, никогда не стемнеет, потому что художник остановил время, и еще потому, что небеса здесь бумажные. А в садах дворца Капричо, где Пепе-Ильо и Костильярес раскачивают качели с герцогиней Осуной, на пруды и акации начинает медленно опускаться ночь. И очень скоро тьма сомкнется, и все действующие лица этого долгого маскарадного праздника ослепнут, как и наряженный в махо молодой кавалер, щупающий воздух деревянной ложкой. И тогда в бесконечных потемках, которые и по сей день еще окутывают страну, засветятся глаза чудовищ, которые Гойя извлечет из своих «Капричос»: из того самого лабиринта, длиною во всю нашу историю, новейшую и вечную, где всегда будет все то же самое, ибо люди не знают дороги.
1 апреля 1828 года
«Дорогой Хавьер, не могу писать ни о чем, кроме радости, которая так меня взбудоражила, что я слег. Богу угодно, чтобы я увидел тебя и обнял, когда ты приедешь, и сбудется моя мечта». Я поставил подпись, а Марианито приписал несколько слов от себя: «Дорогой папа, дедушка шлет вам эти строки и четыре письма в доказательство, что он еще жив». По правде сказать, жить я не живу, такая меня охватила радость. Позавчера прибыли невестка с Марианито и тут же сообщили, что Хавьер приедет за ними через пару недель. От счастливого ожидания мига, когда все они соберутся вокруг меня, я просто обезумел и в конце концов разболелся. Часами говорю и говорю, как старая кумушка, и не похоже, чтобы они устали от моей болтовни. Невестка — хорошая, только молчунья, как все Гойкоэчеа, больше баски, чем мадридцы; она только улыбается да иногда ласково кивает головой. А вот Марианито — вылитый я. Ничего не взял ни от Гойкоэчеа, родни по материнской линии, ни от Байеу, предков бабушки, моей покойной Хосефы. Он таков же, каким был я в его возрасте, а ему теперь семнадцать или восемнадцать. Он вышел сильным и ладным, и характер под стать внешности, в самый раз, как кольцо на пальце. Пылкий, звонкий, способен быть и жестким, и нежным. Иногда он прерывает мое говорение и обнимет или чмокнет в щеку, радуясь какой-нибудь моей мысли или забавному воспоминанию. Женщины будут рвать его на части, если только уже не начали ссориться из-за него. Боюсь, как бы мужчинам не пришлось отведать его шпаги или навахи на дуэлях и в ссорах, что со мною случалось. Мне кажется естественным и знаменательным, что своего отца он называет на «вы», в то время как со мною — на «ты». Обо всем этом и о многих других вещах хотелось бы мне поговорить с Хавьером, когда он приедет в Бордо. Хоть бы его приезд, который мне обещают через две недели, не задержался и я, как светильник, не угас прежде. Моратин сказал мне однажды, что всегда старается избегать счастья, потому что счастье — предатель больший, чем беда. Не хочется верить, но я вспомнил Моратина, когда сегодня после завтрака почувствовал себя вялым и больным. До тех пор, с самого приезда дорогих путешественников, сила, бодрость моя была так же велика, как и радость. Но теперь, лежа под одеялами, я снова вспомнил, что мне восемьдесят два года и что в моем возрасте наивысшее счастье, как я сказал однажды Его величеству королю, — умереть прежде Хавьера и, разумеется, прежде Марианито. Вот об этих-то и еще о многих других вещах хочется мне поговорить с сыном, когда он приедет в Бордо. В отличие от Марианито в Хавьере равно смешалась моя кровь с кровью Байеу. Порою он, точь-в-точь как я, теряет власть над собой, и тогда его несет неведомо куда, будто ветром. Но в большинстве случаев Хавьер умеет быть умеренным и предусмотрительным, как его мать. В этом мы с ним совсем разные, потому что я, решив действовать с осторожностью, обязательно впадаю в трусость и в гнусность. (И с Марианито будет происходить то же самое, если бог ему не поможет.) Хавьеру с его тактом и чувством меры удалось бы смягчить резкий характер Леокадии, о котором мне даже думать не хочется. Не успели приехать Марианито с невесткой, как она спрятала Росарито неизвестно куда, будто боялась заразиться проказой. Потом она, Леокадия, повела себя словно какая-нибудь прислуга — почтительно, но сурово и отчужденно. «К вашим услугам, сеньора. На обед будет приготовлено то, что повелит сеньора», — читал я по ее губам, когда она обращалась к невестке, а та, общаясь с этим василиском, изо всех сил старалась одолеть собственную сдержанность. А то резанет насмешкой, как ножом. «Сеньорито угодно шоколаду с булочками в постель или он предпочитает позавтракать вместе со всеми?» — обращалась она к Мариано. Позавчера ночью, когда мы укладывались спать, я попросил ее умерить немного характер, не омрачать моего счастья. Как будто я посыпал ей солью раны, просто вся зашлась, и так бранила меня, так бранила! Облокотилась на подушку и лампу поднесла к самому лицу, чтобы я ни слова не пропустил с ее губ. «Ты совсем слеп, не видишь даже собственной глупости! Дурак из дураков! Не понимаешь разве, они приехали за одним: убедиться, что ты не изменил завещания? Плевать им на твою кровь, твое имя, да и на саму твою жизнь, им бы только знать, что они получат твои деньги, твой дом и твои картины. Заполучи они все это теперь же, они бы бросили тебя подыхать на чужбине, и глазом бы на тебя не глянули. Плевать им, что тебя сожрет — одиночество или черви, — им одно нужно — наследство. Да что их судить, проживи они тысячу лет, они бы все равно тебя не поняли. Будут носить твое имя, они — твоя плоть, но никогда, никогда в жизни так и не узнают, кем ты был в этом мире». От гнева слова у нее натыкались друг на друга, и я думал, она вот-вот разобьет лампу о мою голову. «Не удались они не оттого, что выросли эгоистами, а оттого эгоисты, что не удались!» — продолжала Леокадия метать громы и молнии, едва перевела дыхание. «А сын твой Хавьер еще хуже лисы-невестки и проходимца-внука! Хуже, потому что лицемернее этой парочки паяцев и не такой дурак, как они. Хоронится в тени, ждет, что донесут ему шпионы. Напиши они, что ты помер, он бы сломя голову примчался сюда заграбастать все, до последнего носового платка. А потом бы пошли распродавать и твои картины, одну за другой, — на корм скоту или на акции банка Сан-Франсиско!» Я закрыл глаза, чтобы не слышать ее, уткнулся головой в подушку и погрузился в сон. («Скоро семь лет, как в Риме скончалась моя мать, а через десять дней за ней последовал отец — из Неаполя прямиком в ад. Только тогда и впервые в жизни я почувствовал себя свободным. Потом-то я понял, что это не так, что свободным на самом деле можно быть лишь в том случае, если тебя не зачинали. Свободны только те, которые никогда не были, ибо даже мертвые отбывают наказание. А все остальное на свете, в том числе и королевская власть, — след на воде да судейские кляузы».) В столовой, еще более просторной, чем во дворце Вента-дель-Айре, где почти все столики пустовали, завтракали мужчина и женщина. Его голос, мне казалось, я мог представить, потому что он был в точности как мой иногда во сне; но оба они молчали, будто в рот воды набрав. На стене висел последний написанный мною портрет Его величества короля в горностаевой мантии и со скипетром в руке. («В день смерти матери сестра Мария Луиса написала мне письмо из Рима. Мать умерла, как говорится, почти на руках у Годоя. Целую неделю он не отходил от постели умирающей, оставался один на один с нею. Перед самой смертью мать позвала Марию Луису и сказала: „Я умираю. Оставляю тебе Мануэля. Приблизь его к себе, преданнее человека вам с Фернандо не найти“. Когда сестра увидела, что дело плохо, она удалила из покоев колбасника, лившего слезы, точно кающаяся богомолка, и позвала священников».) Теперь женщина сидела на поваленном стволе, где-то на лугу. Она была в вязаном жилете, похожем на те, что носят пастухи в Леоне, и длинных узких штанах, какие надевают тореро, собираясь на пробный бой. Человек с голосом, похожим на мой — или, во всяком случае, на воспоминание о нем, — стоял подле женщины. Она держала его руку в своих и что-то говорила, но слов ее во сне я не мог разобрать; на ее лице, освещенном зимним солнцем, читалась трудная работа мысли. На запорошенном снегом лугу несколько фигур играли в жмурки, как на моем последнем картоне для шпалер. Они играли, танцевали, хохотали, но ничего этого я в своей глухоте не слышал. Я глядел на пару и на губах женщины прочитал два вопроса: «Ты знаешь, кто ты? Знаешь точно, кто мы?» — «„Игра в жмурки“ говорит, кем мы станем», — отвечал ей мужчина. Я задумал эту картину во дворце Капричо, после долгой тяжбы с Королевской мануфактурой. Я не хотел больше писать для них картоны, но потом дал согласие на последний, который вобрал в себя четыре сделанных ранее эскиза о празднике святого Исидро. Темой послужили игры, которые я наблюдал в рощах у герцогини Осуны. Я не стал писать скит и чудотворный источник, все это было уже вчерашним днем. Не стал обозначать и очертаний Мадрида вдали. Вместо этого придумал пейзаж, что-то среднее между тем, какие изображают на шпалерах или видят в мечтах и какие писал Веласкес. Одного аристократа нарядил мадридским гулякой из простонародья, завязал ему глаза, вложил в руку длинную деревянную ложку и поместил в центре холста. Вокруг него нарисовал четыре пары франтов и франтих, тоже в маскарадных костюмах; держась за руки, они плясали в хороводе. Картон очень понравился, и на Королевской мануфактуре меня всячески расхваливали, упрашивали писать для них еще и на выгодных условиях. По секрету мне предложили за будущие работы столько, сколько не получал даже сам Франсиско Байеу, мой старший шурин. Я наотрез отказался. Эта пора моей жизни, жизни художника шпалерной мануфактуры Санта-Барбара, окончилась. Искусственно продлевать ее — так же нелепо, как пытаться затянуть рассвет до полудня или удержать след на воде. Тогда я лишь неясно чувствовал, и только много лет спустя понял, что целая эпоха, в которую нам выпало появиться на свет, войти в ум и народить детей, оканчивалась вместе с этой полосою моей карьеры. Как сейчас помню праздник святого Исидро в том году, когда я написал «Игру в жмурки», — не то в 1787, не то в 1788. Герцогине Осуне пришла в голову мысль отправиться в марте к скиту святого Исидро на гулянье. «Только вот так, хотя бы раз в год живя вместе с народом, мы сможем понять смысл нашего существования на земле», — сказала герцогиня Осуна. Я подумал, уж не забыла ли она, откуда взялись такие, как Костильярес, Пепе-Ильо, да и я сам; те выросли среди продавцов требухи и мошенников на городской бойне, а я — сын золотильщика из Арагона. Должно быть, она и вправду позабыла, но не потому, что, как считают люди, мы — любовники, а потому, что она сама и герцог называют нас своими друзьями. А для герцогов Осуна этот титул поважнее королевской крови. И вот мы в открытых экипажах и в каретах выехали из дворца Капричо и через весь Мадрид направились к источнику святого Исидро. «Какое ясное утро, будто сошло с твоих картин», — сказала мне герцогиня. «А может, и сошло», — ответил я, и мы рассмеялись. От глухоты меня отделяло несколько лет, я еще слышал, и не только во сне, как смеюсь я сам и как смеются женщины. Через арку, воздвигнутую Его величеством королем Доном Карлосом III, которому суждено было умереть в том самом году, мы выехали на улицу Алькала. Проехали мимо монастырей Бернардинок, Баронесс, ордена Калатравы. Было раннее утро, и звонили к заутренней колокола на церкви святого Иосифа, что подле часовни святой Тересы, где, как рассказал мне герцог, было выставлено тело дона Родриго Кальдерона, после того, как он с легендарным достоинством взошел на плаху. «Сегодня монарший фаворит, а завтра преступник, осужденный за растрату. Говорят, когда Филипп III скончался, дон Родриго Кальдерон, Маркиз Семи церквей, воскликнул: „Король умер, и я тоже мертв!“» — рассказывал мне герцог Осуна. «К убранному в траур помосту он подъехал на муле в сопровождении судейских, глашатаев, альгуасилов и прочего казенного люда. По этим улицам, до самой Пласа-Майор, где его должны были повесить, бежали за ним молодые девицы, словно на карнавал. Разбойникам в ту пору не жилось так сладко, как нынче; но умирали они куда достойнее». У монастыря святого Иосифа, вблизи площади Альмиранте, жил никому тогда еще не известный военный из Эстремадуры; звали его Мануэль Годой. На углу улиц Сан-Херонимо и Алькала совсем еще молоденькая тогда Мария Тереса строила себе дворец Буэнависта. Ни ей самой, ни ее мужу, маркизу Вильяфранка, не суждено будет жить в нем и даже увидеть его законченным. После смерти Марии Тересы при распродаже ее имущества это здание будет подарено бывшему эстремадурскому офицеру, превратившемуся в герцога Алькудиа и Принца Мира. Справедливость-насмешница (уж не знаю, по воле небес или ада) распорядится так, что все состояние Принца Мира после того, как он попадет в немилость, будет разграблено. («Признаюсь тебе в том, чего никто не знает. Мать оставила все свое состояние своему любовнику, колбаснику. Разумеется, я не дал Годою увидеть ни гроша из тех богатств. Можешь быть уверен, он окончит свои дни в Париже, сгниет в нищете».) Подъехав к скиту, мы отведали воды из чудотворного источника. Как сейчас помню, она отдавала инеем и горными ветрами. Герцогиня отпустила пару шуточек, почти святотатственных, насчет чудес, творящихся у источника. Но Пепе-Ильо с Костильяресом пили с серьезным видом, прикрыв глаза, как будто молили святого дать им передышку, защитить от бычьих рогов. «У каждой эпохи своя золотая, чудесная пора, — говорила герцогиня Осуна. — У язычников она пришлась на то время, когда животные разговаривали и загадывали загадки. В христианстве то была пора чудес. И даже у дьявола в распоряжении — колдовство и ведьминские шабаши, где черти в человечьем обличье портят девственниц даже в таком католическом крае, как Бискайя. А в наши дни разум — единственная область необыкновенного». «Не забывай о свободе, моя дорогая, — улыбался герцог. — Мы верим в нее, как и во всемогущий разум, хотя не знаю, одинаковы ли основания для одной и для другой веры». Поэт Ириарте вдохнул понюшку табака и уселся поближе к расстеленной на лугу скатерти. «Быть может, чудеса и теперь случаются, только мы слепы и не замечаем их. Такое пренебрежение к чудесному присуще всем империям в период агонии. Вспомните Юлия Цезаря, как он презрел зловещие предсказания и отправился в Сенат». «Сравнение не годится, славный мой Ириарте, нашего нового монарха трудно равнять с Цезарем, а римский сенат с Советом Кастилии — тем паче», — возразил герцог. «Совершенно верно, Ириарте, не кощунствуйте, — вмешалась герцогиня. — Я никогда не верила в божественное право королей, но только в божественное право императоров и, конечно, герцогов. Однако же вынуждена заметить, что Юлий Цезарь, хотя он и император, был извращенцем». Все засмеялись, и даже матадоры, которым с трудом удавалось следить за нитью столь изысканного спора. «Я имел в виду не Его величество и не Совет Кастилии, — улыбался Ириарте, — а серьезных и добропорядочных людей вроде нас. Чудеса творятся впустую, мы не умеем их толковать. Превратить воду в вино — чудо немалое; но то, что мы будем жить на холстах этого человека, — он ленивым жестом указал на меня, — быть может, много веков после нашей смерти, мне кажется чудом не меньшим. Самое чудесное заключается не в том, чтобы переделать настоящее, но в том, чтобы угадать будущие перемены. Таким образом, наш прах воплотится в наших портретах, подобно тому, как палитра обращает холст в зеркало». — «Ах, Ириарте, как прекрасно то, что вы говорите! — захлопала в ладоши герцогиня Осуна. — Надо бы все это переложить в пьесу и назвать „Источник святого Исидро“. Мы бы представили ее в нашем театре, во дворце Капричо, и каждый играл бы в ней самого себя, вот как сейчас мы тут разговариваем. А в конце выходило бы, что все мы — фигуры со шпалеры или из воспоминаний, которым наш художник предается в старости». Ириарте улыбался, покачивая головой. «Ваш замысел превосходит мои возможности, сеньора. Написать такое мог бы только биограф больших художников вроде Вазари». На вопрос, кто такой Вазари, Ириарте ответил рассказом о его книге «Le Vite de’più Eccelenti Pittori, Scultori e Architetti»

Огромное войско под предводительством великого князя Литовского вторгается в Московскую землю. «Мор, глад, чума, война!» – гудит набат. Волею судеб воины и родичи, Пересвет и Ослябя оказываются во враждующих армиях.Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, хитроумный Ольгерд и темник Мамай – герои романа, описывающего яркий по накалу страстей и напряженности духовной жизни период русской истории.
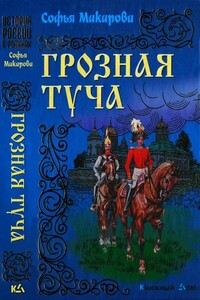
Софья Макарова (1834–1887) — русская писательница и педагог, автор нескольких исторических повестей и около тридцати сборников рассказов для детей. Ее роман «Грозная туча» (1886) последний раз был издан в Санкт-Петербурге в 1912 году (7-е издание) к 100-летию Бородинской битвы.Роман посвящен судьбоносным событиям и тяжелым испытаниям, выпавшим на долю России в 1812 году, когда грозной тучей нависла над Отечеством армия Наполеона. Оригинально задуманная и изящно воплощенная автором в образы система героев позволяет читателю взглянуть на ту далекую войну с двух сторон — французской и русской.
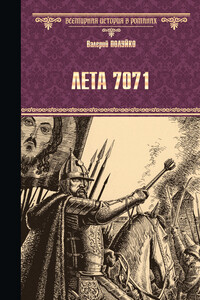
«Пусть ведает Русь правду мою и грех мой… Пусть осудит – и пусть простит! Отныне, собрав все силы, до последнего издыхания буду крепко и грозно держать я царство в своей руке!» Так поклялся государь Московский Иван Васильевич в «год 7071-й от Сотворения мира».В романе Валерия Полуйко с большой достоверностью и силой отображены важные события русской истории рубежа 1562/63 года – участие в Ливонской войне, борьба за выход к Балтийскому морю и превращение Великого княжества Московского в мощную европейскую державу.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.
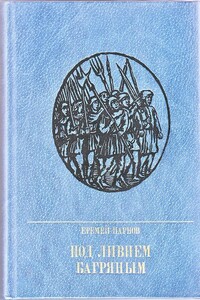
Таинственный и поворотный четырнадцатый век…Между Англией и Францией завязывается династическая война, которой предстоит стать самой долгой в истории — столетней. Народные восстания — Жакерия и движение «чомпи» — потрясают основы феодального уклада. Ширящееся антипапское движение подтачивает вековые устои католицизма. Таков исторический фон книги Еремея Парнова «Под ливнем багряным», в центре которой образ Уота Тайлера, вождя английского народа, восставшего против феодального миропорядка. «Когда Адам копал землю, а Ева пряла, кто был дворянином?» — паролем свободы звучит лозунг повстанцев.Имя Е.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.