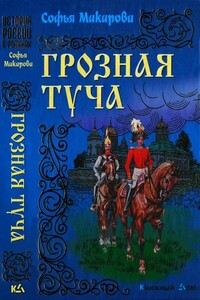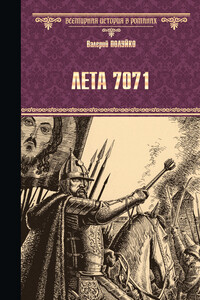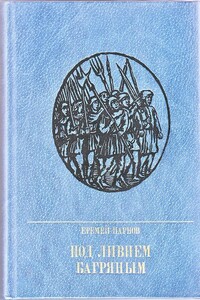. Я был доволен, что разговор перешел на другое, потому что не знал, посмеивается Ириарте надо мною или совершенно искренно рассыпается в неумеренных похвалах. Скорее всего, и то и другое вместе. Праздник пролетел как ветер. Как один день. Как наша жизнь. Тридцать или тридцать пять лет спустя я снова побывал у источника святого Исидро — во время первого гулянья, после войны. К тому времени все участники нашей давней поездки давно умерли, кроме герцогини Осуны и меня, но и мы с ней больше не виделись. Накануне ко мне пришли из дворца — меня вызывал Его величество король, несколько дней назад возвратившийся из Валансе. Ему понравились картины «Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года» и «Восстание 2 мая 1808 года», которые были выставлены на триумфальной арке Пуэрта-де-Алькала. Как и у всех в его роду, у короля было инстинктивное чувство справедливости по отношению к живописи, которого у него никогда не было по отношению к ближнему или к себе самому. С полным основанием он отдал предпочтение картине о расстреле перед картиной о восстании. Как мне потом рассказали, он велел остановить карету против картин и — к величайшему изумлению толпы — вышел из кареты, чтобы как следует рассмотреть полотна. «Проклятый старик спас свою шкуру! Не было и нет ему равного!» — услышали его шепот те, что стояли близко. Потом, качая головой и улыбаясь своей улыбкой гиены, он снова сел в карету. Во дворце в то утро он не поминал моих отношений с захватчиками и с французским королем. Я слишком хорошо знал его и понял: то было не безразличие — он хотел держать меня в неведении, будут меня судить за измену королевской власти или нет. По правде сказать, меня ничуть не беспокоило, что со мной сделают, потому что, написав «Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года», я потерял страх смерти. Я бы мог убежать вместе с теми, кто, как и я, был связан с французами, но я не убежал; однако вспоминать прошлое тоже не хотел. Аудиенция была короткой и свелась к монологу короля. Сделав несколько очень тонких замечаний по поводу моей живописи и искусства в целом, король сказал, что хочет из картин, составляющих королевскую коллекцию, устроить музей для народа, и наконец сообщил, что назавтра, в день святого Исидро, я должен сопровождать его к скиту и чудотворному источнику, где будет устроено гулянье. «Праздник будет небывалый: праздник в честь мира, завоеванного Желанным, — уточнил он, улыбаясь бесцветной улыбкой. — Я бы хотел, чтобы ты сделал наброски, а потом, глядишь, и картину». На следующее утро меня посадили вместе с ним в королевскую карету. Он приветственно подмигнул мне и ткнул локтем в ребра. Изо рта у него пахло тухлыми яйцами и табаком. «Надо сказать, в определенном смысле мы в долгу перед твоими друзьями французами. Признаюсь откровенно, но ты обещай держать в секрете». Впервые, хотя и косвенно, он заговаривал о моих отношениях с королем Жозефом и его людьми. Я прекрасно разбирал по губам, что он говорил, но не ответил и не хотел сознаваться, что понял намек. Однако, похоже, он не ждал от меня извинений или возражений, потому что продолжал: «Самозванец отменил виселицу и ввел постыдную гарроту, что знаменует собой необратимый прогресс в области наших юридических норм. Научиться вешать может каждый, в два счета, я и сам еще мальчишкой повесил пуделенка моей матери, хотел отомстить уже не помню за какое наказание. Ты, наверное, помнишь, в юности я был горазд на выдумки. Жаль, потом не поощрял собственных естественных склонностей, иначе бы повесил и колбасника на том же дереве. Как ты считаешь?» Наверное, я ответил ему, что слишком много видел преступлений во время войны и потому больше никому не желаю смерти. Он рассмеялся лающим смехом. «Не лицемерь, старина! Талант, данный тебе дьяволом, прощает все грехи, кроме двуличия. Ты же главный палач в королевстве, как ты тогда разделал нас всех на семейном портрете. И потом в каждой картине казнил без всяких церемоний. Я тебя не упрекаю, просто ты сильнее, вот и подчинил нас своему закону». Я сказал, что никому ничего не навязывал, просто писал то, что видел. Он согласился, пожав плечами. «Мы с тобой пришли в мир с одной целью; ведь ты нас увидел такими, какие мы есть, не только снаружи, но изнутри. И заставил выставить напоказ всю нашу суть. Жаль, что с годами ты тоже теряешь силу, я ведь с тех пор никому больше не верю, только себе самому. Беда в том, что я на самом деле не существую. Я — сумасшедший, который воображает себя Желанным. Скажи мне, старик, а ты веришь в бога, как в своего короля?» Я сделал вид, что не разобрал вопроса, а король продолжал, не глядя на меня; развалясь на сиденье, он широко расставил ноги и уперся взглядом в потолок экипажа. «Я верю в гарроту. Она — неизбежный результат естественной гармонии прошедшего столетия. Если мы благоразумно сумеем воздать ей должное с первых же дней мира, то этот сумасшедший дом может превратиться в Аркадию. Мой народ обязан мне всем, и пять лет подряд он моим именем убивал себе подобных. А теперь в обмен на порядок ответит мне полным повиновением». Чем ближе мы подъезжали к скиту, тем гуще становилась толпа. Его величество король собственноручно раздвинул на окошках кареты занавески с помпончиками. На склонах холма войска старательно сдерживали толпу, которая, бурно приветствуя короля, готова была залезть в карету. Монарх улыбался и, галантно изгибаясь, направо и налево посылал рукой привет. Мне казалось, я спустился в последний круг ада, наступившего вместе с миром, ада, в глубины которого мы не опускались даже во время войны. Людские волны нищих, прокаженных, слепцов, калек, голодающих вместе со своим голодом, наготою и семьями снялись с выжженных войною земель и хлынули к чудотворному источнику отведать святой водицы и выразить верноподданнические чувства своему королю. По приказу, поступившему из дворца, как я потом узнал, солдаты раздавали толпе виноградные выжимки, и пьяные орды сотрясали небеса рыком. Славили Желанного, святую инквизицию, тюрьмы и цепи. Монарх взял на себя труд пересказывать мне вопли толпы, чтобы я не мог спрятаться от ее рева даже в своей глухоте. Едкое зловоние тел, гниющих от гангрены, смрад пота и винного перегара просачивались в карету, к великому удовольствию Дона Фернандо. «Как пахнет наш благородный народ, старик! Наслаждайся хотя бы смрадом плоти, раз уж тебе не дано слышать, как они орут! А как воняют, ну совсем как мы, недаром же созданы они по нашему подобию; по образу и подобию господа бога! В любой другой стране, с виду цивилизованной, вроде Франции, где живут твои дружки, быдло устроило бы революцию и отрубило голову и тебе и мне. Тебе, наверное, даже раньше — за то, что выбрался с той самой земли и с той самой улицы, где они по сей день мучаются. В Валансе Корсиканец передал мне как-то фразу одного якобинца. Этот якобинец, не помню, как его звали, совершенно справедливо заметил, что королями не рождаются безнаказанно. А родиться художником вроде тебя еще более непростительно. Для подобных людей — а их во всей истории по пальцам перечесть — нет на земле ни прибежища, ни места, хотя мы, короли, и позволяем им иногда рисовать нас такими, какие мы есть. Ничего, смерть сделает тебя безобидным, а потом тебя вспомнят как свидетеля нашего позора и запрут в невидимую клетку, одну из тех, что будущее приберегает для чудовищ». Он открыл окошки, и море смердящей и орущей плоти хлынуло в них — поцеловать руку Желанному. А он, смеясь, протягивал ее этой своре с вылезающими из орбит глазами и разверстыми пастями, и оттого, что я не слышал ни звука, ужас еще сильнее охватывал меня. Король хохотал и давал лизать себе ладони, слюнявить пальцы, ловить их зубами и спорить, кому достанется чмокнуть его в ноготь. Неожиданно, как с ним бывало, ему это надоело, и он с силой ударил рукоятью палки по потолку кареты. Как по условному сигналу, кучеры бросились хлестать кнутами ту же самую толпу, а гвардейцы из эскорта принялись палить в воздух. Его величество король вытерся платком, надушенным двумя перебивающими друг друга благовониями: эвкалиптом и пачулями. Потом брезгливым жестом выбросил платок в окно и закурил сигару. «С таким народом за ключи от королевства можно не беспокоиться, они в полной безопасности. Нам с тобой нечего бояться. В такой стране не может быть настоящей революции. А с помощью гарроты мы заживем в мире, и палач будет нашим ангелом-хранителем. Какое утешение знать, что этот нищий сброд, этот двор чудес меня обожает, а заставь их убивать, они будут свирепее всех, в чем захватчики убедились на собственной шкуре. Они одинаково годятся и в убийцы и в лакеи. Но не дай бог завладеть им нашими городами и оружием — пришлось бы стрелять их не один год, чтобы снова наставить на путь истинный. А я вот вместо этого устрою музей живописи, и там выставят семейный портрет, который ты написал. Придет время, когда нас на том портрете не будут узнавать, люди забудут, как звали меня и тех, кто рядом со мною. А твое имя, напротив, будут помнить всегда, во всяком случае, я надеюсь, что так будет». Далеко позади, на склоне, осталась голодная, одурманенная виноградными выжимками чернь. Погрузившись в мысли, я смотрел на него, а карета уезжала все дальше, приближаясь к скиту. Отведав кнута и ружейных прикладов, люди теперь теснились точно стадо, сбитое в кучу сторожевыми псами. Еле волоча босые или обутые в опорки ноги, они продолжали свой путь к скиту и чудотворному источнику. Впереди шел слепец с огромными бельмами и головою, вывороченной точно у поломанной куклы. Судя по тому, как он разевал рот, он орал благим матом, ударяя при этом по струнам гитары. Остальные, похоже, подпевали. Неожиданно налетела майская гроза, небо среди белого дня потемнело, словно почерневшее, но еще кое-где поблескивающее старое серебро. Скоро первые молнии, наверное, рассекут небеса и над церковью Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Не могу сказать, что много лет я носил в памяти образ этих паломников. Написать их сразу такими не значило приблизиться к тому, что было в действительности. Память накапливает у себя на чердаке слишком много впечатлений, и лишь время от времени какое-нибудь из них всплывает. Вернее сказать, эта нескончаемая вереница попрошаек, слепцов, прокаженных, увечных, искореженных бедствиями войны и объединенных в день святого Исидро верою в чудотворный источник и в Желанного, последовала из того дня за мною дальше и, топя свои вопли в моей глухоте, проникла в самую глубь моего существа, словно надеялась там отыскать конец и цель своего долгого странствия. Лет пять или шесть спустя я купил Дом Глухого и написал ту процессию на стене как заклятье, чтобы избавиться от них, — так раньше я нарисовал Сатурна, пожирающего своего сына. («Рассказывать историю нашей Испании все равно что исповедоваться в тайных злодеяниях».) Наверное, это правда, ибо страна так давно пожирает себя, что и сама восприняла безжалостную жестокость выродков. Как бы то ни было, но очень скоро дом со всей росписью отойдет Хавьеру, сколько бы ни сетовала Леокадия. («…Плевать им на твою кровь, твое имя, да и на саму твою жизнь, им бы только знать, что они получат твои деньги, дом и картины. Заполучи они все это теперь же, они бы бросили тебя подыхать на чужбине, и глазом бы на тебя не глянули. Плевать им, что тебя сожрет — одиночество или черви, им одно нужно — наследство…») Я сказал Его величеству королю, что счастье для меня — умереть прежде моего сына. Но сейчас мне кажется, что это не совсем так. Мое представление о счастье становится все требовательнее. Теперь для его полноты надо, чтобы Хавьер приехал в Бордо раньше, чем я умру. Увидеть его еще раз, хотя бы на миг, в награду за выпавшую мне муку: ни разу со дней младенчества не слышать его голоса. По сути, я снова обманываю себя; если Хавьер приедет очень скоро, как уверяют невестка с Марианито, то величайшим благом для меня станет не умереть тотчас же. Лучше забыть, что ты жив, а еще лучше — что можешь умереть! Смириться и ждать приезда сына спокойно, день за днем, но не слишком долго! («…Хоронится в тени, ждет, что донесут ему шпионы. Напиши они, что ты помер, он бы сломя голову примчался сюда заграбастать все до последнего носового платка. А потом бы пошли распродавать и твои картины, одну за другой — на корм скоту да на акции банка Сан-Франсиско!») Какое мне дело до того, как поступит Хавьер с моими холстами, когда я буду уже мертв? Я писал картины не затем, чтобы близкие прятали их от чужих глаз, точно святые мощи. Что мне за дело, как распорядятся Хавьер или Марианито своим именем, которое и мое тоже? Я был в друзьях у четырех королей, и последний, Желанный, сказал абсолютную правду: и он, и я — ничто. В лучшем случае стоим не меньше, но и не больше какого-нибудь нищего из той праздничной процессии, ибо в кровавом фарсе, который разыгрывает наша страна, все мы приговорены к одному проклятью. Нет, я писал картины не затем, чтобы близкие их свято чтили, и не я выбирал себе имя, перед которым бы расшаркивались. Имя и талант даны мне неведомыми силами, что выше моей воли. Я всегда писал только затем, чтобы знать: я жив; и хотелось бы верить, что так будет вечно, иначе не стоило жить. («А я-то мечтал, что ты состаришься и умрешь здесь, и я устрою тебе похороны, достойные Апеллеса. Твое тело установили бы на Пуэрта-де-Алькала, и королевские алебардщики с конницей несли бы почетный караул. До самой Вентас-дель-Эспириту-Санто стояли бы люди в очереди ночами, чтобы посмотреть на тебя, усопшего. Чернь одинаково сбегается на казни и на погребения. И то и другое для них — зрелище».) Слава богу, не выставят моего тела любопытной толпе на обозрение. Просто снесут на здешнее кладбище. Однако я надеюсь, что французская земля не будет ему последним прибежищем. Хорошо бы, перевезли в Мадрид. Не народу напоказ, а захоронить в церкви Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Я и вправду не знаю, откуда у меня взялось такое желание, наверное, в том повинны законы перспективы и симметрии. В церкви Сан-Антонио-де-ла-Флорида впервые в жизни я писал так, как хотелось, и мне не осмелились бросить упрека. Другими словами, там я начал становиться тем, кто я есть, а до той поры не дерзнул бы этого сделать.