Деньги - [9]
Капитан, сидевший, по пароходному обычаю, за хозяина, посмотрел на него.
— Да какое же дело туркам до того, кто мы такие? — спросил он. — Они и генерала, и министра разденут точно так же, как простого матроса. Им бы только содрать бакшиш.
Товарищ прокурора повёл плечом.
— Чёрт знает что! — только и проговорил он.
Ветер всё крепчал, дождь всё подсекал с одной стороны. Иван Михайлович, после завтрака, пошёл в рубку второго класса. Увидя его, Тотти опустила книгу. Он сел рядом с ней.
— Татьяна Юрьевна, — заговорил он. — Мне возвратили деньги за билет. Но, может быть, вам нужно… Ради Бога.
— Не надо говорить об этом, — перебила она. — Да, я очень бедна, и очень вам благодарна за вашу заботливость. Но я думаю, что мне хватит.
— Надо заплатить за простой каждого дня в карантине, и здесь за содержание, — сказал он. — Это такой вздор. Ведь вы мне отдадите со временем. Вы перешлёте мне в Египет или в Россию. Но успокойте меня. Я знаю, что у вас теперь денег нет. Быть может, мы завтра расстанемся и навсегда. Позвольте же мне оказать вам эту маленькую услугу…
— Но зачем же? — смущённо сказала она, хотя сообщение о карантине и о новых поборах поколебали её.
— Наконец, мало ли что может случиться в Константинополе, в незнакомом городе? Вдруг вы не сойдётесь почему-нибудь с этими грекосами: вам надо же будет воротиться домой?
— Я должна сойтись, — сказала она, — хотя бы мне было очень трудно. У меня мать больна: она не может зарабатывать. Кроме меня никто её не поддержит. Я больше для неё и приняла это место. Отец был богат и всё проиграл в карты. Утром после проигрыша его нашли застрелившимся. Он написал записку: «Я поступаю, как честный человек: плачу шулерам всё до копейки, и свою семью пускаю по миру». Это быль чудесный человек. Если б вы знали, как я любила его… А мать я не люблю, — внезапно прибавила она. — Вы думаете, моя поездка — это дело дочерней любви? Нет. Я должна её содержать и потому взяла место, которое выгодно. И я буду всё отсылать ей, оставляя себе только самое необходимое.
Она улыбнулась, показывая ряд маленьких, белых зубов.
— Видите, какая я наивно-откровенная, — проговорила она. — Вам, совсем мне чужому человеку, открываю такие вещи, как свои отношения к маме. А знаете, это почему? Потому что у меня никого нет. У меня нет близкого человека, с которым я могла бы поговорить. А временами это тяжело, очень тяжело — молчать. У меня никогда, даже в гимназии, не было подруги, — я росла одинокой. Прежде это как-то не было заметно, а теперь с каждым годом всё делается тяжеле и тяжеле.
VI
Он смотрел на неё, и видел, что в изломе её бровей, в линиях рта, в матовом блеске глаз, есть что-то затаённо-грустное, выстраданное. Ни одной складки ещё не было на её белом лбу; ни одна морщинка ещё не замечалась вокруг её глаз; её губы слагались в чистую, девственную линию, и в то же время лицо говорило: я видела горе, я знала горе, я понимаю его.
— Я тоже рос одиноким, — сказал Иван Михайлович. — У меня тоже нет близких друзей. Но я не тягощусь этим. Я привык рассчитывать сам на себя и на свои силы. Мне тоже отец ничего не оставил умирая, я и не сокрушаюсь об этом. Не всё ли равно? Раз я могу работать — зачем мне чужие деньги, хотя бы моего отца?
— Да… — как-то неопределённо сказала она, смотря куда-то перед собою. — Деньги, — странная это вещь деньги. Я ненавижу их: от них главное зло, и на каждом шагу они отравляют мне жизнь.
Она задумалась. Он не прерывал её.
— Бедность отвратительна, — продолжала она, — потому что даже честный человек из-за неё идёт на компромиссы. Обыкновенно говорят, что он гибнет со знаменем в руке. Но это редко бывает. У нас был в гимназии учитель, который всё говорил о знамени, а сам доносы писал на товарищей, потому что ему хотелось получить место инспектора: детей было много.
— У вас мало веры в жизнь? — спросил Иван Михайлович.
— Веры много, и силы есть, — задумчиво ответила она. — А только шаткость какая-то под ногами, неустойчивость. Да вы возьмите моё положение. Поступаю я в незнакомую семью гувернанткой. Мне кажется, у меня есть способности учить. Труд это хороший, относиться я буду к делу добросовестно. Но беда-то вот в чем. Главные мои занятия: языки, — русский и французский, — и я их знаю. Буду все усилия употреблять на то, чтоб и девочки-гречанки их знали. А в глубине души вертится мысль: а зачем им знать французский язык, зачем им правильно писать по-русски? Вероятно, есть знания, которые гораздо им были б нужнее и полезнее для жизни. Но этих знаний я преподать не могу, потому что сама их не знаю. Вон в евангелии сказано, что главное знание — знать, как надо любить ближнего. А как я этому научу?
— Назад везут после дезинфекции, — сказал им бухгалтер, проходя мимо. — Совсем лодки Харона, — посмотрите.
Они вышли из рубки. Дождь прошёл, только дул ветер. «Лодки Харона», ныряя в волнах, приставали к пароходу. Оттуда вынимали бесчувственные, бледные тела. Точно не на три часа увозили их на берег, а они пробыли неделю без пищи, без света и воздуха. У всех лица сразу опали, мускулы втянулись, взгляд стал блуждающим.

Петр Петрович Гнедич — русский прозаик, драматург, переводчик, историк искусства, театральный деятель.Книга воспоминаний — это хроника целых шестидесяти лет предреволюционной литературно-театральной жизни старого Петербурга и жизни самого автора, богатой впечатлениями, встречами с известными писателями, художниками, актерами, деятелями сцены.Живо, увлекательно, а порой остроумно написанные мемуары, с необыкновенным обилием фактических деталей и характерных черточек ушедшей эпохи доставят удовольствие читателю.

Источник текста: Гнедич П.П. Кавказские рассказы. — Санкт-Петербург. Товарищество «Общественная польза», 1894. — С. 107.

Интересна ли современному человеку история искусства, написанная почти полтора века назад? Выиграет ли сегодня издатель, предложив читателям эту книгу? Да, если автор «Всеобщей истории искусств» П.П. Гнедич. Прочтите текст на любой странице, всмотритесь в восстановленные гравюры и признайте: лучше об искусстве и не скажешь. В книге нет скучного перечисления артефактов с описанием их стилистических особенностей. В книге нет строгого хронометража. Однако в ней присутствуют – увлеченный рассказ автора о предмете исследования, влюбленность в его детали, совершенное владение ритмом повествования и умелое обращение к визуальному ряду.

Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.
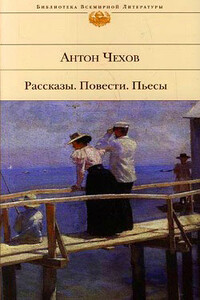
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
