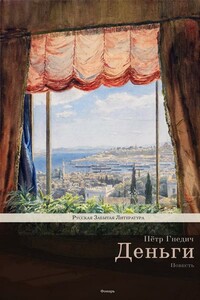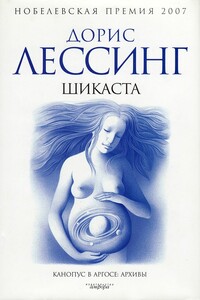— А ведь это выстрел! — проговорил белокурый, с небольшой проседью человек, высовывая из-под простыни голову на длинной и тонкой шее, и прислушиваясь. — Иван Михайлович, вы спите?
— Да, что-то… как будто выстрел, — ответил полусонно Иван Михайлович, — молодой человек с небольшой бородкой клином, и с вьющимися золотистыми волосами, лежавший у противоположной стены каюты на узкой пароходной койке.
— Ведь мы стоим, — продолжал длинношеий. — Неужели приехали?
Он поднялся на постели, и заглянул в каютное окно, приютившееся под самым потолком. Сквозь круглое отверстие синело звёздное небо, и на нем резкими чёрными контурами темнели пологие горы.
— Земля! — воскликнул он. — Ей-Богу, земля! Да мы, батенька, никак в Турции. Погодите-ка, я всё разузнаю.
Он наскоро стал одеваться, прислушиваясь к возне и стуку на палубе. Там топали чьи-то мягкие пятки, слышался лязг цепей и визг лебёдки. Якорные цепи разматывались с грохотом и скрипеньем. Шум и тарахтение паровиков, — к чему ухо так привыкло в течение минувших двух дней, и что казалось таким же естественным, как биение пульса, — сменились непривычной тишиной. Слышно только было, как плескалась тихо и томно вода, где-то близко, тут, за самой стенкой, да глухо доносилась сверху команда и шипение пара, вылетавшего откуда-то из трубы.
— Это вместо утра мы к часу ночи прикатили, — говорил белокурый, спешно натягивая на себя необходимые принадлежности туалета. — Молодцы ребята! И дули же мы сегодня: и пары, и ветер попутный. Только если это Босфор, — уж там как хотите, я вас подыму. Таких картин пропускать нельзя: смотрите-ка, луна вовсю светит. Иван Михайлович? Вы не спите, Иван Михайлович? Это никак нельзя, Иван Михайлович! Это, знаете, даже неприлично.
Он шагнул к товарищу по путешествию, и потряс его за плечо.
— Да я не сплю, — не открывая глаз отозвался Иван Михайлович. — А только ещё неизвестно — Турция ли это. Может просто на мели сидим, — тогда чего же вставать? Вы Алексей Иванович посмотрите всё подробно, а потом и скажите мне.
И он повернулся набок, очевидно предполагая, что осмотр местности и взвешиванье всех обстоятельств займёт у Алексея Ивановича немало времени, и можно будет ещё с четверть часа вздремнуть. Но ожидания эти не оправдались. Не прошло и минуты, как опять каютная дверь отворилась, и белокурая голова выставилась в щель.
— Одевайтесь, Иван Михайлович, — скорей одевайтесь, — каким-то сдавленно-испуганным шёпотом проговорил он. — Я на палубе жду вас.
Иван Михайлович быстро спустил ноги с кровати. Ему представилось, что пароход получил пробоину и идёт ко дну. Иван Михайлович был почти одет, — сон прошёл. Он, нахлобучив шляпу, набросив лёгкий пиджак, захватив часы и бумажник, поднялся по окованной медью лестнице наверх.
Огромный морской пароход стоял неподвижно на якоре. Звёздное небо живым куполом горело над головами, и на его стеклянном синем фоне стройно сквозили паутинами снасти гигантских мачт. С берега доносился душистый ветерок, полный аромата от цветов и скошенной травы. С обеих сторон поднимались чёрные горы — и открывали между собою узкий пролив. Над ними сиял молодой месяц — как будто осеняя своим серпом страну, избравшую его своей эмблемой. В воде дробилась серебристая сетка лунного отражения и алмазами сверкала то там, то тут по тихому разливу спокойных, сонных, убаюканных ночью вод.
Иван Михайлович не сразу нашёл своего спутника. В сутолоке бегавших матросов, он останавливался, оглядывался, присматривался, пробираясь сторонкой, прошёл весь борт с одной стороны, потом с другой и, наконец, догадался взобраться на крышу рубки. Там он нашёл его, — без шапки, с длинными спутанными волосами, смотревшего влюблёнными глазами, на небо, на воду, и на горы.
— Роскошь какая, а? — говорил он. — Сколько прозрачности, хрустальности, чистоты? Хорошее место! Правда, Иван Михайлович, а? Правда?
Но Иван Михайлович был довольно спокоен.
— Ночью все кошки серы, — сказал он. — При луне всё хорошо. При луне и наша петербургская Мойка поэтична. А вот днём здесь каково, посмотрим.
— И днём хорошо! Отчего же вы думаете, что это не должно быть красиво? Ведь у вас чувство красоты должно быть развито очень сильно. Если вы архитектор, то вы форму должны ценить больше чем кто-нибудь.
— Да я ценю, — слабо отозвался Иван Михайлович.
— Что в вас чувство к прекрасному развито, — продолжал его собеседник, — я это понял потому, как вы разговаривали с этой гувернанткой, с этой барышней, что едет здесь в третьем классе. Я не поклонник брюнеток, но отдаю справедливость характерности её лица. Я видел, как вы смотрели на неё, как говорили, как следили за ней глазами.
— Постойте, Алексей Иванович, — остановил его архитектор. — Почему же, если мне нравится наружность Татьяны Юрьевны, то должны нравиться и горы Босфора?
— Потому что, — опять захлебнувшись, и как-то пригибаясь к земле, заговорил Алексей Иванович, — потому что красота равномерно разлита в природе, — и одинаково чувствуется и в женщине, и в небе, и в дереве, и в воде, — и во всём, что носит на себе хоть след поэзии.
— Ну, вы смотрите на всё под углом, — засмеялся Иван Михайлович. — Поэты все в шорах — не видят, что делается вокруг них, а вперёд глядят через розовые очки.