Деньги - [10]
— Уж и хрупкие старушки нынче стали! — говорил один весёлый матрос, внося на руках маленькое дряблое тельце, прикрытое мятой, точно изжёванной кацавейкой. — Ну, становись, божья тварь, на ноги! Не можешь? Отдышись здесь на ветерке.
Он посадил её у борта, на палубу, и побежал опять вниз к шлюпке.
— Что с вами? — спросила Тотти, наклоняясь над ней.
Но старуха только тяжело дышала. Веки её вздрагивали, то подымаясь, то опускаясь.
— Укачало её очень, — заговорила курносая богомолка, появляясь возле. — Страх, как било нас у середины. Думали, уж совсем конец пришёл. Одна бабёнка чуть грудного своего младенца в воду не упустила. Как хлястнет пена в неё, так всё до нитки промочило, — в рот и в нос морская горечь налезла.
— Смотрите, смотрите, — морщась заговорила Тотти, показывая на несчастных. — Что это за ужас!..
Некоторые входили и, тут же шатаясь, падали на колени. Они крестились, глядя со слезами на хмурые тучи, и губы их шептали:
— Слава те, Христе: сподобились воротиться.
— И слабосильная же команда, — говорил матрос, втаскивая двоих ребяток. — На качелях небось качаетесь, а тут боитесь.
— Это очень интересно! — говорила толстая армянка, смотря на привезённых в лорнет. — У них совершенно испорчено всё платье; посмотрите, точно оно выстирано и не выглажено. Очень интересно.
Худой, мрачного вида старик в позеленевшем от времени подряснике, недружелюбно посмотрел на толстую армянку.
— Собрали бы что на недостаточную-то братию, — сказал он ей. — Ограбили нищих-то.
Товарищ прокурора неожиданно вынул трехрублевую бумажку.
— Вот, пожалуйста, раздайте, — сказал он.
— Ах, и от меня дайте им рубль, — сказала армянка. — Я так хочу выразить им сочувствие.
Тотти отвела Ивана Михайловича в сторону.
— Да, — заговорила она, — вы мне дадите денег. Я отдам вам потом. Нужно им непременно дать…
— Хорошо, хорошо: я распоряжусь, — конфузливо заговорил он. — Вы не беспокойтесь. Вы узнайте только, кто больше потерпел…
— После обеда приедет доктор для выдачи карантинных свидетельств, — объявил помощник капитана. — Завтра с рассветом мы тронемся.
— Наконец! — сказал Анатолий Павлович. — И всё-таки надо разъяснить этот инцидент. Нас в карантине не могли задержать. Существует, оказывается, договор, по которому карантины между Турцией и нами уничтожены.
— А какая будет польза от этого разъяснения? — спросил, смеясь, капитан. — Вот приедет доктор: спросите-ка у него. Мы здесь десятый год плаваем, и никакого толку не можем добиться, когда поднимается разговор о международных правах. Единственное право, которое признают турки, — деньги. Они берут деньги со всех, с кого можно, — возьмут и с нас. А что касается порчи платьев, это ещё с полгоря. Испортить можно вот такое пальтецо на шёлку, как у прокурора, а их лохмотья от препариванья только чище будут. Складочки отойдут со временем: ещё они же должны быть благодарны, что всё зверьё их передохнет.
И он равнодушно посмотрел на привезённую партию, таким же взглядом, каким смотрел на коров и баранов, грузившихся на пароход, и пошёл к себе справлять поздний завтрак.
Опять пассажиры разбрелись. Опять сели за винт, принялись за книги. Бухгалтер с упорством высиживал своё стихотворение. Он всё не был им доволен, хотя не без пафоса прочёл его двум-трём пассажирам.
— Вы, пожалуйста, замечания делайте, замечания, — говорил он и декламировал несколько в нос и нараспев:
— Ну, а конца я ещё не написал…
Товарищ прокурора тоже случайно услышал стихи, и сказал:
— Я в поэзии очень мало понимаю толка. Но скажу, что надо говорить «со смирением», а не «с смирением».
Бухгалтер обиделся.
— Я собственно — дилетант, — проговорил он, — и нисколько не претендую на звание поэта. И хотя печатаюсь, но гонорара не беру.
— Отчего же? — удивился Анатолий Павлович. — Каждый труд должен быть оплачен.
— Поэзия — не труд, — сказал строго Алексей Иванович, — и оплачена быть не может.
— Невесомых материй не признаю, — засмеялся товарищ прокурора, — и полагаю, что как бы тонка и возвышенна поэзия ни была, но может быть взвешена и оценена.
— Это с точки зрения слепой Фемиды, — злобно заметил Алексей Иванович. — У неё в руке и весы для этого имеются.
— А с бухгалтерской это величина несоизмеримая? — с гримасой спросил Анатолий Павлович.
— Не столько с бухгалтерской, сколько с моей, — вспыхнув проговорил Перепелицын. — И я считаю, что вообще писатели не должны брать деньги за свои вещи. Продавать свою душу нельзя, потому что душа — предмет непродажный. Но не будем лучше об этом говорить.
Товарищ прокурора пожал плечами и сказал:
— Что ж, не будем: мне всё равно.
VII
Карантинный доктор появился на пароходе настолько внезапно, нежданно, что появление его было почти сверхъестественно. Точно он спустился, подобно чайке, прямо с неба на палубу. Никакой шлюпки нигде видно не было, и не будь он так велик и толст, можно было бы подумать, что его привезли случайно, ещё перед обедом, вместе с пассажирами третьеклассниками, — а только никто не заметил ни его, ни его портфеля.

Петр Петрович Гнедич — русский прозаик, драматург, переводчик, историк искусства, театральный деятель.Книга воспоминаний — это хроника целых шестидесяти лет предреволюционной литературно-театральной жизни старого Петербурга и жизни самого автора, богатой впечатлениями, встречами с известными писателями, художниками, актерами, деятелями сцены.Живо, увлекательно, а порой остроумно написанные мемуары, с необыкновенным обилием фактических деталей и характерных черточек ушедшей эпохи доставят удовольствие читателю.

Источник текста: Гнедич П.П. Кавказские рассказы. — Санкт-Петербург. Товарищество «Общественная польза», 1894. — С. 107.

Интересна ли современному человеку история искусства, написанная почти полтора века назад? Выиграет ли сегодня издатель, предложив читателям эту книгу? Да, если автор «Всеобщей истории искусств» П.П. Гнедич. Прочтите текст на любой странице, всмотритесь в восстановленные гравюры и признайте: лучше об искусстве и не скажешь. В книге нет скучного перечисления артефактов с описанием их стилистических особенностей. В книге нет строгого хронометража. Однако в ней присутствуют – увлеченный рассказ автора о предмете исследования, влюбленность в его детали, совершенное владение ритмом повествования и умелое обращение к визуальному ряду.

Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.
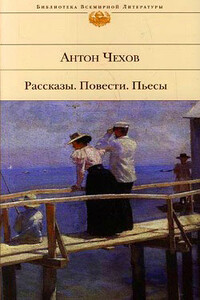
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
