Буквенный угар - [38]
„Любопытно наблюдать — один текст выставили, потом убрали, второй. Страницу пока еще не заблокировали?“
То, что я, чтобы не делать Вам неприятно, убрала оба текста, было Вам любопытно?
И осведомились о незаблокированной страничке тоже из врожденной вежливости и природной любознательности? С доброй такой иронией?
Очень жаль, что я не умею хорошо посылать подальше. Для таких случаев пригодилось бы.
Но. Зато. У меня очень хорошо заледенели мысли и чувства. Теперь я смогу без всякого угара написать о Ваших рассказах.
Не беспокойтесь. Я хорошо напишу. Рассказы Ваши ни при чем».
О, как беспрепятственно мое холодное бешенство передается ему:
«Ну что ж…
Про диссонансы могу сказать, что Вам, сударыня, медведь на ухо наступил. Вы ухитряетесь слышать от меня, при моей предельной искренности, видимо, то, что Вам хочется в данный момент услышать.
Мне надоело доказывать Вам, что я белый и пушистый. Я такой, какой есть.
Хотите послать? Не трудитесь. Я и сам уберусь. Видимо, Вы добились того, чего хотели.
Спасибо за общение. Всех благ».
Ах, я понимаю, понимаю, что он, конечно, дитя дурное. Но я вот обидела его все-таки.
Вместо ответа — потому что как же отвечать на такое письмо! — даже я не могу — написала для него вот это.
Как странно…
Я бросаю тебе злые слова, потому что хочу, чтобы своим прикосновением ты сделал чудо — преобразил их.
Мне видится, что ты, смеясь, ловишь брошенные камни моей горечи и превращаешь их в цветные шары жонглера. Тонкие твои пальцы мелькают, творя фейерверк преображения: с шаров вдруг, спиралью, ползет кожура, и в воздухе пахнет раненым апельсином и немного зеленым яблоком…
Но нет… Твои руки — наваждение скульптора — тяжелы. Пальцы левой давят висок, а правая опустилась вдоль тела.
А мои камни уже летят тебе в голову.
И долетают. Больно.
Мне страшно. Объяснить ничего невозможно. Так страшно и виновато бывает только в детстве. Но там можно было зареветь, спрятать лицо в маму и отдаться сладким всхлипам и возвращению назад, в невиноватость.
Я смотрю тебе в спину. Но говорить не стану.
Ничего не написал с тех пор.
Чувствую, что это конец.
Статью свою он получит, уже начала писать. Я, правда, хорошо напишу. Он достойный человек. Труженик.
И все. Вряд ли я смогу ему чем-то помочь. Если только он сам не прильнет назад, но это вряд ли. Его надо выковыривать, выманивать из створок раковины.
Я не стану. Не стану. Не могу. Боюсь.
«…Наверное, Вы не ответите на это письмо, Игорь.
И это будет правильно.
У меня уже стерлась фантомная ярость, толкнувшая меня написать то злое последнее письмо. И больно уже не оттого, что я восприняла Ваши слова как диссонанс. А оттого, что обидела Вас. Но наверное, это хорошо, что все так завершилось.
Потому что… не знаю, не могу сформулировать — почему. Я читаю Ваши книги, чтобы написать статью, и думаю: „Ну как я могла так Вас обидеть, как могла“. Но вот смогла…
Прошу Вас, даже если Вы не скажете ничего в ответ, простите меня напоследок.
Лика».
«…Пусть все будет как будет» — так, кажется, ответил он. Значит, так надо. Кому, зачем — не мне судить. Надо, и все.
Параллели все-таки не пересекаются. Это иллюзия… Все на свете — иллюзия…
Ах нет, эта иллюзия держала меня за горло, творила во мне кровь ртутного цвета, гнала пальцы по клавишам:
«…Игорь.
Хороший, безумно дорогой человек.
Мое состояние совершенно дикое, если Вы хотите это знать.
В компе нет Ваших фото, но есть в книге.
Я вчера гладила Ваше лицо и плакала. Вы не чувствовали, Вы уже спали давно.
Я пыталась отстраниться оттого, что чувствую к Вам, чтобы написать статью, но это пустая затея.
Начала писать с вдумчивым профессионализмом, и тотчас меня унесло в Ваш мир, в Ваше сердце, мысли, образы.
Разве Вы не видите, как написана эта статья? Разве там есть отстранение?
Я себе твержу, что после того, как Вы холодно и твердо ушли в последнем письме, не пожелав вникать в мои яростные жалобы, мне не вернуть ничего. „Не стоит унижаться, — говорю я себе. — Но унижение — такая мелочь“.
Знаете, я, как только вернулась домой, схватила ноутбук и не выпускаю из рук. На все обращения ко мне мычу „угу“ и пытаюсь на клавиатуре выстукать Вас, как заключенный выстукивает в стену соседней камеры, ищет живую душу. Чувствую себя маньяком, загнанным в одну мысль.
Вдруг полился большой дождь. Знаете, когда Вы цитируете Окуджаву, у меня по сердцу проходит судорога…
Скажите же, что я прощена и все забыто, или пошлите меня грубо и далеко, пусть я сразу свернусь в ожоге, как кожа, выживу — хорошо, нет — еще лучше».
Я помню, что он написал в ответ:
«…Я не призываю теряться. Но что, кроме виртуала, возможно? Да ничего. А виртуал не обязательно должен выражаться словесно. Солнышко светит — это я Вам улыбаюсь. Дождик — тоже мой привет. Может быть, надо просто сделать паузу? Горячка, обиды, запал, интенсив — спадут, и все вернется?
Лика, спроси у себя, готова ли ты быть со мной ровной и спокойной, не мотать мне нервы и щадить, а не превращать общение в каменоломню».
Почему, почему этот ответ показался тогда таким оскорбительным? Потому что в нем сквозило неравенство чувств. Идеальное шекспировское воздаяние: «Любовью за любовь» — отсутствовало, а мое смятение уняло бы только это…
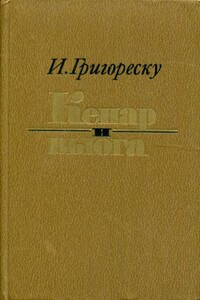
В сборник произведений современного румынского писателя Иоана Григореску (р. 1930) вошли рассказы об антифашистском движении Сопротивления в Румынии и о сегодняшних трудовых буднях.

«Песчаный берег за Торресалинасом с многочисленными лодками, вытащенными на сушу, служил местом сборища для всего хуторского люда. Растянувшиеся на животе ребятишки играли в карты под тенью судов. Старики покуривали глиняные трубки привезенные из Алжира, и разговаривали о рыбной ловле или о чудных путешествиях, предпринимавшихся в прежние времена в Гибралтар или на берег Африки прежде, чем дьяволу взбрело в голову изобрести то, что называется табачною таможнею…

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

1941 год. Амстердам оккупирован нацистами. Профессор Йозеф Хельд понимает, что теперь его родной город во власти разрушительной, уничтожающей все на своем пути силы, которая не знает ни жалости, ни сострадания. И, казалось бы, Хельду ничего не остается, кроме как покорится новому режиму, переступив через себя. Сделать так, как поступает большинство, – молчаливо смириться со своей участью. Но столкнувшись с нацистским произволом, Хельд больше не может закрывать глаза. Один из его студентов, Майкл Блюм, вызвал интерес гестапо.

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с… В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг… Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут… Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.

Анна Ривелотэ создает произведения из собственных страданий, реальность здесь подчас переплетается с призрачными и хрупкими впечатлениями автора, а отголоски памяти вступают в игру с ее воображением, порождая загадочные сюжеты и этюды на отвлеченные темы. Перед героями — молодыми творческими людьми, хорошо известными в своих кругах, — постоянно встает проблема выбора между безмятежностью и болью, между удовольствием и страданием, между жизнью и смертью. Тонкие иглы пронзительного повествования Анны Ривелотэ держат читателя в напряжении с первой строки до последней.