ад Киевом занимался новый ясный день. Солнце, поднимавшееся из-за Днепра, ласкало теплыми лучами сосновые бревна крепостных стен, выжимая из них янтарные капли пахучей смолы.
Спозаранку, едва откричали третьи петухи, уж помчались по улицам бирючи[1] и княжьи отроки — выгонять народ на реку креститься в новую веру.
Киевляне, потрясенные вчерашним свержением их кумиров Перуна и Волоса, не очень-то рвались принимать нового Бога, которого, сказывают, и увидеть-то невозможно.
Какой же это Бог, ежели невидим? — рассуждали горожане. То ли дело Перун-батюшка. Стоял посреди города, всем видимый, сущий. Можно было подойти, и руками потрогать, и попросить о чем-то: чтоб в пути поберег от разбойников, чтоб доброе жито уродилось, чтоб женка парня родила, а то повадилась девок да девок. Перун даром что молчит — слушает. И ведь исполняет желания, ежели хорошо попросишь да на жертву не поскупишься. Особливо Перуну нравится, ежели ему барана или петуха заколоть да кровью губы помазать. Тут он все исполнит. Эвон Людота Коваль все сделал так и попросил, чтоб кобыла его жеребенка принесла. Все как есть исполнил Перун. Теперь у Людоты и кобыла и жеребчик — в лета уж входит, скоро объезжать будет. Взять того же Братилу. Что ни лето — его огород либо скот потопчет, либо бродни[2] повыдергают. А попросил Перуна, и все как рукой сняло. Теперь Братила и с овощем и с зерном.
И вот те на. Великий князь Владимир Святославич воротился из Херсонеса и привез себе другую, никак уже шестую, жену — царевну византийскую и сам в ее веру перешел. Ну сделал он это сам, куда там, всему народу велит переходить в греческую веру, а кто откажется, на того обещает обрушить свой гнев. Эвон бабка его, княгиня Ольга, приняла греческую веру и никого за собой не тянула. Даже сына Святослава не смогла уговорить. А этот? Ох, неладно делает, кабы беды какой не случилось. Ведь он руку на самого Перуна поднял. И как не боится?
Вчерась велел свалить бога золотоусого в реку. Почитай весь Киев сбежался, бабы в рев: «Перунушка, милай, прости — не уберегли-и!» А дружинники княжьи окопали Перуна, веревками обвязали, свалили и, привязав к хвосту конскому, поволокли к Днепру. Что было-то? Крик, рев, одна старуха упала да руками-те за Перуна имается: «Не отда-ам!» — голосит. Да куда ей, дружинник едва руки не отсек сердешной.
Другая баба кричит. «Перунушка-батюшка, порази ты их, окаянных, ударь их молоньей своей!» Ну и выпросила, один дружинник плеткой-то и ударил ее через лоб: «Не торочь, что не скисло, дура!»
Сбросили Перуна в воду, а он-то все к берегу, к берегу норовит приткнуться. Народ готов ему помочь выбраться, так эти злыдни мордастые к берегу никого не подпускают. А его, сердешного, все баграми, баграми отталкивают. Так и пошли за им, он плывет, а они по бережку — баграми, баграми его. А народу подходить не дают, плетками охаживают. Люди плачут, а им хоть бы что…




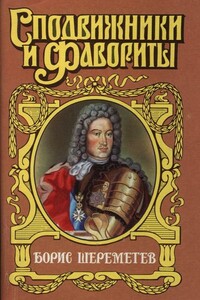
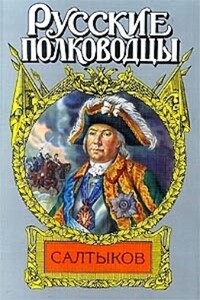


![Метель [альтернативный вариант]](/storage/book-covers/41/41811edf82156a63c3694c34f71caef4824fc741.jpg)











