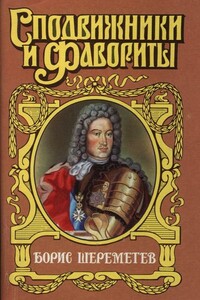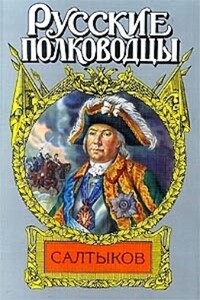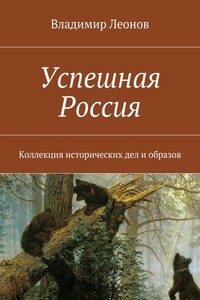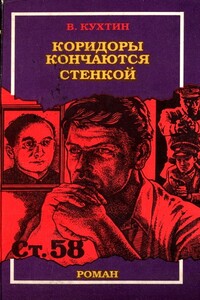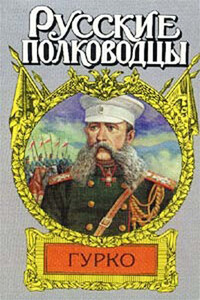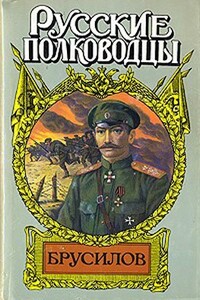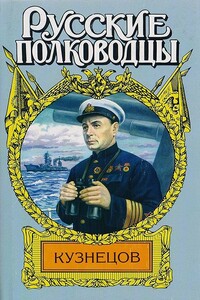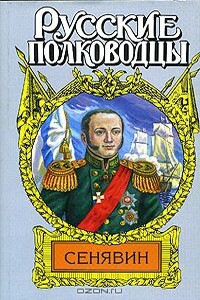В конце долгого июньского дня еще засветло у ворот усадьбы князя Скопина-Шуйского остановилась закрытая колымага. Из открывшейся дверцы ее по трехступенчатой лесенке быстро спустилась женщина в темном суконном опашне и таком же волоснике[1] и торкнулась в калитку.
— Кто там? — спросил приворотный сторож.
— Свои, — тихо отвечала женщина. — Отворяй! Живо!
Цыкнув на залаявших было собак, сторож открыл калитку, признав гостью, промямлил в удивлении:
— Катерина Григорьевна, княгинюшка… прости.
— Сам-то дома? — спросила княгиня.
— Только что из Кремля прибывши Михаил Васильевич.
— Слава Богу, — перекрестилась княгиня. — Боялась не застать. Вели сказать ему обо мне.
— Федьша! — окликнул сторож.
На крыльце дома явился молодой парень в однорядке[2].
— Скажи Михаилу Васильевичу, княгиня Шуйская до них.
Молодой князь Михаил никак не ожидал появления Катерины Шуйской у себя, слишком высокомерна была она. Взглянул на мать, пожал плечами:
— С чего бы это? Мам? А?
Старая княгиня нахмурилась, сказала с неудовольствием:
— Видно, жареный петух в задницу клюнул.
— Я, кажется, догадываюсь.
— Будь с ней осторожен, сынок. Не забывай, она дочь злыдня Малюты Скуратова[3]. А яблоко от яблони… сам знаешь.
Слуга Федька провел гостью в горницу князя и едва притворил дверь, как княгиня упала на колени и, протянув руки к Скопину, со всхлипом взмолилась:
— Мишенька, спаси нас. Окромя тебя некому.
— Что вы, Катерина Григорьевна, — князь подбежал к ней, ухватив за плечи, стал поднимать.
Он был явно смущен и обескуражен таким началом. Поднял княгиню, усадил на лавку. Она плакала, лепетала жалобно:
— Ох, Мишенька, милый… пропали мы.
— Успокойтесь, Катерина Григорьевна. — Он отошел к столу, налил из кувшина в кружку квасу, поднес Шуйской: — Испейте.
Княгиня сделала несколько глотков. И опять запричитала:
— Что же делать? Что делать? Вчерась Петру Тургеневу да Федьке Калачнику головы отрубили… Завтрева Шуйских черед. Мишенька, они ж твои родные дядья. Неужто не пособишь им?
— Чем я могу, тетя Катерина? Ну чем?
— Ты ж у государя самым главным мечником, приближен к нему. Пади пред ним, сломи гордыню свою, попроси за ним.
— Их, Катерина Григорьевна, не государь осудил, их судил соборный суд.
— Господи, толп я не знаю этих соборян. Да они все в рот царю смотрят. Чего он схочет, то и присудят.
Скопин в душе был согласен с утверждением Шуйской, но вслух молвил:
— Конечно, я постараюсь, княгиня, но не знаю, получится ли.
— Постарайся, Мишенька, постарайся. Заступись. Я за тебя век молиться стану. Никогда не забуду.
— На них шибко Басманов зол, особливо на Василия Ивановича.
Тот болтнул купцам, что де царь не настоящий у нас. Кто-то донес об этом Басманову, он ухватил Костьку Знахаря: от кого слышали?
Тот вначале запирался, а когда на дыбу подняли, да всыпали кнута, признался: «От князя Шуйского Василия Ивановича».
— Ну Петька Басманов на Шуйских давно зуб точил, — сказала княгиня, отирая платочком со щеки последнюю слезинку. — Берегись его, Мишенька, и ты. — Не без Петькиного соизволения чернь задушила мою старшую сестру, не без его. И ее и сына, царствие им небесное рабе божьей Марии да рабу Божьему Федору. Эх, что творится? На царей руку чернь подымает… дожили, называется.
Княгиня Шуйская, говоря это, посматривала на Скопина. Но Михаил Васильевич молчал, хотя в душе тоже осуждал внезапное убийство жены Бориса Годунова Марии и сына их Федора, которого сразу по смерти отца провозгласили государем.
Взяв с племянника твердое слово заступиться завтра за Шуйских, Екатерина Григорьевна направилась к выходу. В прихожей увидев старую княгиню Скопину-Шуйскую, поклонилась ей, молвив сладко, льстиво:
— Счастливая ты, матушка-княгиня, экого орла взрастила. Завидно.
Ничего не ответила Скопина на такую похвалу, лишь нахмурилась. Едва за Шуйской затворилась дверь, сплюнула ей вслед, прошла к сыну:
— Ну что она, Миша? Зачем прибегала?
— Просит за мужа и дядьев заступиться перед государем.