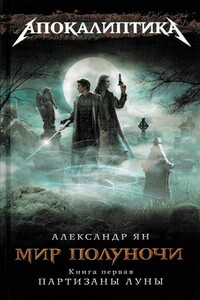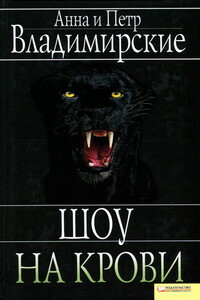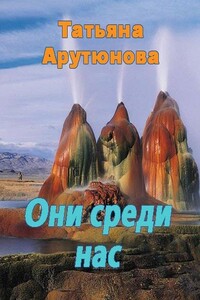— Сегодня он не приходил в себя, — сказал Карим. Помолчал и добавил: — Теперь уже скоро. Не сегодня-завтра. Держись.
Габриэлян кивнул, пожал на прощание Кариму руку. Закрыл дверь.
Он не собирался «держаться», потому что никуда не падал. Дед сегодня еще на шаг подошел к смерти, но от этого Габриэлян нисколько не чувствовал себя хуже. Вот пару недель назад пожелание было весьма в жилу: деда словно раскупорило, и спать он внуку не давал. Казалось, едва Габриэлян закрывал глаза, как раздавалось хриплое: «Са-а-ша-а! Я обосрался!».
Сашей звали его старшего сына, умершего совсем молодым, когда мама была еще девочкой. Призыв, санвойска, орор. Когда дед потерял связь с реальностью, начал называть Габриэляна Сашей. Интересно, почему. Пока был в сознании, вспоминал о сыне очень редко. Габриэлян добрался до старого семейного альбома — цифровые архивы сгорели, но прабабушка не верила в цифру и распечатывала снимки. Саша был коренастым, русым, курносым — похожим на бабушку и на свою младшую сестру. Габриэлян удался в отца: темные волосы, прямой нос, карие глаза. Светло-карие. Почти жёлтые. Ничего общего с незнакомым ему дядей.
Но дед, взывая о помощи, называл его Сашей. То ли вернулся сознанием в прошлое, то ли переместился в параллельный мир, где любимый сын выжил, а нелюбимого зятя и его кошмарного отпрыска никогда не было.
Габриэлян научился менять подгузники и обмывать старческий зад, не приходя в сознание. Он не злился и даже не досадовал, только удивлялся: желудок деда принимал не больше стакана «Биолакта» в сутки — откуда же такое фантастическое количество дерьма? Напрашивались шутки в дурном вкусе, но Габриэлян держал их за зубами, даже мысленно — главным образом потому, что они были отвратительно банальны.
Карим, приходя утром, неловко извинялся: как будто от него зависело, что газовые атаки дед устраивал преимущественно в ночные смены. Это просто чувство бессилия. Не перегорел, не втянулся в рутину. Медбрат предложил как-нибудь остаться на ночь, чтобы Габриэлян хоть немного отоспался перед дипломом, но денег платить сверхурочные у дипломника Габриэляна не было, принять помощь Карима на волонтерских началах гонор шляхетский не позволял, а платить за ночь по дневным расценкам не разрешали правила профсоюза, и за этим следили строго.
Вот тогда Габриэлян, набирая в инъектор свежую порцию нарбутола, каждый раз искал причину выпустить из инъектора воздух.
Можно ведь и не выпускать. Зашился, забыл, устал, бедный студент, все сразу навалилось — и диплом, и переход дедовой болезни в финальную стадию, ночей ведь не спал, а медбрат недосмотрел, недооценил уровень стресса, и вот вам пожалуйста, воздушная эмболия, ай-яй-яй, какое несчастье.
Но нет, принцип есть принцип. Хочешь, чтоб я убил тебя — скажи это вслух, старая сволочь. Назови меня по имени. Уже не можешь? Какая досада.
Сейчас пожелание держаться было совершенно излишне: и это прошло. Габриэлян полностью перешел в автоматический режим, и дед, кажется тоже. Позавчера он перестал есть совсем, пил все меньше, одного подгузника вполне хватало на всю ночь, а доза морфина вырубала его на верных двенадцать часов. В девять следовало поставить капельницу — врач перевел деда на внутривенное питание — в одиннадцать перезарядить кислородный аппарат, в полночь — вколоть морфин, и после этого Габриэлян мог отсыпаться вволю, но и в этом отпала необходимость: диплом он уже защитил, причем, кажется, тоже не приходя в сознание. Во всяком случае, он совершенно не помнил, о чем спрашивали на защите и что он отвечал. Видимо, отвечал как надо, комиссия оценила на сто баллов. Конечно, имело смысл просто лечь и выспаться наконец, как все нормальные люди, но биоритмы пошли вразнос (в чем он им изрядно помог, когда обнаружил, что нарбутол не действует на деда как анальгетик, зато отлично действует на внука как стимулятор — еще одна парадоксальная реакция, сколько их уже было, сколько еще будет…).
Нет, конечно же, он прекрасно понимал, что Карим имеет в виду. Но это относилось к другому миру, к другим людям — то есть, просто к людям… Под которых они с дедом могли более-менее успешно мимикрировать, но не смешиваться. Никогда.
Габриэлян вошел в комнату деда. Шипел компрессор противопролежневого матраса, тихо гудел кислородный аппарат, тикали часы. Только дыхание деда было беззвучным. Подбородок и нос нацелились в потолок, глаза помутнели и закатились. Щеки ввалились так глубоко, словно их сшили там, внутри. Габриэлян подошел ближе, проверил пульс. Под холодной кожей тот прощупывался еле-еле. Лицо, уже пластиково-желтое, в свете вечернего окна обрело золотистый иконописный оттенок, бородка и отросшие волосы чуть завивались от пота, карие глаза, показавшись из-под век, выглядели полными таинственного смысла.
Дед испустил газы. Вроде даже булькнуло. Габриэлян привычным уже движением проверил подгузник — нет, чисто.
— Я пойду поужинаю, — сказал он.
Лишнее; дед уже третью неделю был безучастен к внешнему миру, если ему ничего не требовалось, а в последние дни он даже не звал, когда было плохо, просто издавал безадресные стоны. Но привычка не отпускала.