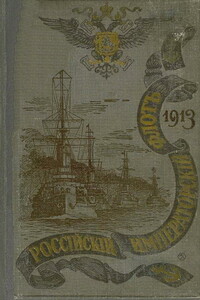О Марьиной роще написано немало, но это урочище всё же в большей степени вписалось не в «высокую», элитарную литературу, а в городской фольклор. Эта достаточно далекая от центра северная окраина Москвы, ощущаемая как загород н протяжении всего XIX века. В Сёмик (седьмой четверг по Пасхе – перед Троицыным днем) в Марьиной роще происходили народные гулянья, особенно популярные во второй половине XVIII и в начале XIX столетия – гулянья достаточно буйные, по-карнавальному, по-язычески веселые и тем самым отличавшиеся от более благопристойных Подновинских гуляний, которые ежегодно устраивались в районе Смоленского рынка и на Новинском бульваре ([6], 33). Но в памяти гулявших там москвичей сохранились и другие, более древние воспоминания. Окрестности Марьиной рощи были настоящим locus mortis средневековой русской столицы. Уже начиная с XV века на южной окраине урочища, совсем недалеко от того места, на Божедомке, где в 1821 году родился Достоевский, находился Убогий или Божий дом, иначе называемый скудельницей. Это было место для погребения людей «скудных» или «убогих» – людей неведомых (нищих, сношавшихся с нечистой силой, безвестных инородцев, странников), а также умерших прежде срока – убитых или самоубийц. В древности, как указывает в своей истории Карамзин, трупы сбрасывали в ямник – нечто вроде большой ямы с водой на дне, прикрывали рогожей, а благочестивые люди «в четверток перед Троицей» (то есть в Сёмик) приходили рыть могилы для убогих и петь по ним панихиды ([6], 28–30).
В XVIII веке и позднее, когда на Божедомке жила семья Достоевских, Семик по-прежнему был днем поминовения и погребения «в скудельницах лежащих братьев наших». Из Высокопетровского монастыря шел крестный ход, москвичи шли вдоль Неглинки со свечами, саванами, несли для поминовения кутью, драчены, печеные яйца и вино. Тела усопших одевали в саваны и погребали, а затем мыли в реке руки и начинался разгульный праздник, с обязательной березкой в разноцветных лоскутках, с попойками, непристойными шутками, песнями и танцами ([6], 31–32). Насколько же проницателен был М.М. Бахтин, впервые указавший на органическую связь стихии смерти и стихии жизни в народной карнавальной культуре и усмотревший карнавальное начало, имплицитно присутствующее в творчестве Достоевского!
Район Марьиной рощи не отличался особой красотой ландшафта, зато всегда воспринимался москвичами как место «вне города». Сам топоним, который звучал совсем не по-городскому, а «по-народному» – Марьина и «по-природному» – роща, воспринимался как нечто странное, экзотическое. Еще совсем недавно, лет сорок–пятьдесят назад, даже сами ее жители (могу сослаться на слова моего университетского учителя Владимира Николаевича Турбина, долгие годы жившего в тех местах) воспринимали ее как район, расположенный на отшибе, «у черта на куличках», хотя от центра до Марьиной рощи не дальше, а гораздо ближе, чем, например, до «цивилизованного» Измайлова (cм. [Примечание 1 ]). Другое распространенное мнение о Марьиной роще в ХХ веке – это репутация района неблагоустроенного и «плохого», в котором живет подозрительная публика: воры, бандиты, хулиганы. Вернемся, однако, в начало XIX века. В 1809 году В.А. Жуковский пишет повесть «Марьина роща» в подражание «Бедной Лизе», пытаясь тем самым превратить это место смерти без погребения и веселья без удержу в настоящее литературное урочище, подобное Симонову. Получилось ли это? На какое-то время да: сентиментальное московское купечество и мещанство, а также небогатое личное дворянство, в том числе семья Достоевских, в которой «слезно-сострадательная» культура была в большом почете (ср. 3, 464), воспринимали «Марьину рощу» как милую сердцу поэтизацию знакомого подмосковного уголка – еще одного легендарного места несчастной любви. И всё же если «Бедной Лизе» суждено было стать важной, неотъемлемой страницей не только истории отечественной литературы, но и русского национального сознания (в конце ХХ века появляется не только постмодернистский спектакль, но и мультфильм по мотивам этой повести), то «Марьина роща» столь громкого успеха не имела. Недолгим оказался также успех одноактной патриотической оперы «Сёмик» (1815), игранной по случаю победы над Наполеоном, или музыкального спектакля по пьесе С.И. Давыдова «Сёмик, или Гулянье в Марьиной роще» (1815) в театре на Знаменке. Повесть Жуковского вдохновила было М.И. Глинку на создание «русской» оперы, но, как оказалось, «слов», то есть либретто не было ([6], 35).
Ко второй трети XIX века литературная мода на Марьину рощу стала достоянием прошлого. Образ этого урочища, не сентиментальный, а скорее «готический», связанный с темой Убогого дома и погребения неприкаянных мертвецов, перекочевал в низовую беллетристику. История скудельницы звучит в рассказах В.М. Котельницкого, который пересказывал материалы, собранные историком И.М. Снегиревым. А в 1834 году в Москве была анонимно напечатана историческая повесть «Танька, разбойница ростокинская…»; одна из ее глав, посвященная Убогому дому, называлась «Столица гробов вблизи» (