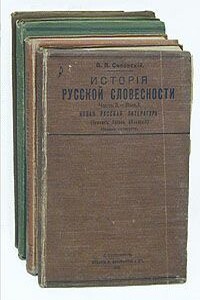Московские литературные урочища. Часть 2 - [2]
Русская классическая литература косвенным образом запечатлела в своей истории другое обстоятельство, связанное с окрестностями московского «мертвого дома»: там пришел на свет и вырос Федор Михайлович Достоевский. Образов конкретных уголков Москвы в творчестве великого романиста почти нет. Единственным исключением является роман «Подросток», главный герой которого вспоминает «пансионишко Тушара», то есть Сушарда (Н.И. Драшусова) на Селезневке (опять «воровская» улица!), и свою мать, которая крестилась на Красную церковь напротив – то есть на церковь Николы в Новой Дмитровской слободе, существующую и поныне. И, кажется, никто еще не обратил внимание на то обстоятельство, что большая улица, ведущая к этому месту от Садового кольца и являющаяся продолжением Большой и Малой Дмитровки, называется Долгоруковская. По случайному стечению обстоятельств (См. [Примечание 2 ]) Аркадий и Макар Долгорукие носят фамилию, связанную с московским урочищем, которое по праву может считаться «достоевским».
Окрестности Страстной площади
В первой трети XIX века Страстная площадь и ее окрестности были одним из самых оживленных центров той особенной жизни, которую вела в то время московская аристократия и которую так замечательно описал Михаил Гершензон в книге «Грибоедовская Москва» (1914). Отсюда, с вершины Тверского холма уже был виден Кремль – этот корень и древнее, «вечное» ядро русской столицы. Здесь был расположен Московский английский клуб – единственное в тогдашней России (за исключением частных домов) неофициальное светское учреждение, устроенное для свободного общения благородного сословия (См. [Примечание 3 ]). Здесь начинался самый, как тогда считалось, красивый и благоустроенный бульвар – Тверской, и у москвичей побогаче и познатнее считалось признаком хорошего тона прогуливаться по нему в погожий день. И дом генерала-губернатора, и салон Зинаиды Волконской, и дом вельможи Ивана Яковлева, в котором родился и провел свои детские годы Александр Герцен, и дом Александра Осташевского с роскошным садом, украшенным гротами, каскадами и великолепными скульптурами – всё это находилось неподалеку отсюда, на Тверской улице или на Тверском бульваре. В начале Страстного бульвара, напротив монастыря (в доме № 6), в начале XIX века жил поэт Иван Дмитриев. Позднее там поселился Дмитрий Свербеев, содержавший знаменитый литературный салон, в котором в 1940 году встречались Гоголь и Лермонтов и в котором чуть позднее происходили словесные баталии западников и славянофилов. А на противоположной стороне бульвара стоял дом вдовы камергера Марии Ивановны Римской-Корсаковой (№ 3), у которой подолгу жил А.С. Грибоедов, описавший собиравшееся в этом доме общество – весьма специфическое, единственное в своем роде, так называемую «грибоедовскую Москву» Воспоминания о ней долгое время хранила русская литература в лице Пушкина, П.А. Вяземского, А.И. Герцена и в первую очередь Льва Толстого как автора «Войны и мира» ([2], 62–106). Москвичи, совершая акт логического упрощения, называли это здание домом Фамусова, хотя наиболее вероятный прототип грибоедовского героя в нем никогда не жил, а только бывал. В конце тридцатых годов его снесли, а еще раньше, в 1927 году, рядом с ним по проекту Г. Бархина построили издательский комбинат «Известия» – один из шедевров русского конструктивизма.
Это урочище обрело новую жизнь в бурные годы революции, гражданской войны и раннего нэпа. Здесь, в длинном двухэтажном доме между Тверским бульваром и Большой Бронной, находилось знаменитое кафе «Стойло Пегаса», где собирались футуристы, имажинисты и ничевоки, где гремел Маяковский и дебоширил Есенин. Однако трудно сказать, думали ли они, что находятся в старом литературном урочище, в известном смысле родине «Горя от ума», «Евгения Онегина» и «Войны и мира». В тридцатые годы кафе закрыли, устроили там пивную, а при Хрущеве – вполне «трезвое» и совершенно безликое кафе «Молочное». В начале семидесятых снесли длинный дом с кафе, а на его месте остался только травяной газон. На стене сохранившегося дома, первого по правой стороне Тверского бульвара, долгое время качался огромный маятник устроенных там электрических часов, напоминавший о неумолимом течении времени и древней поговорке – «кануть в Лету»…
И всё-таки это место сохранило органическую связь с живой историей отечественной литературы. Вокруг Страстной (Пушкинской) площади, неизменно ассоциировавшейся с Пушкиным и с комбинатом «Известия», появилось несколько важных редакций газет и журналов – «Московские новости», «Новое время», «Вопросы истории». Справа за выстроенном на месте Страстного монастыря кинотеатра «Россия» (ныне «Пушкинский») примостилось Агентство печати «Новости». Но самым важным оказался адрес редакции журнала «Новый мир» – Малый Путинковский переулок, дом 1/2. Здесь в шестидесятые годы прошлого века работали Александр Твардовский, Игорь Сац, Владимир Лакшин, сюда Солженицын принес свой рассказ «Один день Ивана Денисовича», которому суждено было сыграть ни с чем не сравнимую роль в формировании общественного мнения и в развитии литературы. В самой же литературе ХХ века наиболее продуктивным локусом оказался опекушинский памятник Пушкину, стоявший сначала в начале Тверского, а затем Страстного бульвара – место любовных свиданий и деловых встреч (например, в детективных романах), а также многочисленных историко-культурных и поэтических ассоциаций.

Щукин Василий Георгиевич — ординарный профессор кафедры русской литературы Средневековья и Нового времени Института восточнославянской филологии Ягеллонского университета (г. Польша), доктор филологических наук. .

Чтобы почувствовать, как один стиль эпохи сменяется другим, очень хорошо, например, пойти в картинную галерею и, переходя из зала в зал, наблюдать, как напыщенные парадные портреты, имеющие так мало общего с реальной действительностью, сменяются не менее напыщенными романтическими страстями, затем всё более серенькими, похожими на фотографии, жанровыми реалистическими сценками, а еще позже феерической оргией модернизма с его горящими очами демонов и пророков, сидящих в окружении фиолетовых цветов и огромных, похожих на птеродактилей, стрекоз и бабочек...А можно иначе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.