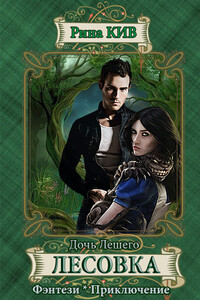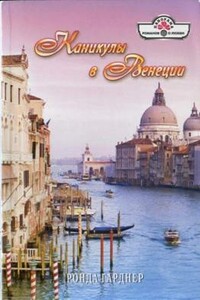Об органичности и судьбоносности русского западничества
Стоит ли еще и еще раз возвращаться к русскому западничеству? Стоит ли говорить о нем как о значительном явлении русской интеллектуальной истории? В конце концов, исторический эпизод с его участием и с участием его достойного противника — славянофильства — длился совсем недолго, а вскоре оба течения подверглись дезинтеграции и растворились в других тенденциях отечественной мысли. И даже если признать справедливым тот факт, что западничество не только осталось в благодарной памяти потомков, но и реально повлияло на различные аспекты русской пореформенной действительности, то не потерпело ли оно, превратившееся к тому времени в многочисленные разновидности либерализма и левого демократизма, окончательное поражение в 1917 году, когда наша страна была ввергнута в хаос и дикий разгул азиатской “народной стихии”? Не оказались ли в конечном итоге правы славянофилы или, скажем, Н.Я.Данилевский, с полной уверенностью утверждавшие: “Россия — это не Европа”?
История не дает однозначных ответов на поставленные вопросы. Но тем не менее, я глубоко убежден в том, что русское западничество не было ни случайным, ни вторичным по отношению к Западной Европе, ни эпизодическим явлением. Оно было столь же органично для России, как Пушкин, Чаадаев, славянофилы, Достоевский, Тургенев, Чехов, Николай Бердяев или Семен Франк, Александр Солженицын или Андрей Сахаров. И не менее судьбоносно, чем все другие ранние проявления нашего национального самосознания. Доказательству этих двух тезисов посвящена настоящая статья.
И европейское, и самобытно русское
Существует достаточно широко распространенное мнение, согласно которому проeвропейскую ориентацию в России стоит принимать во внимание лишь как побочное, второстепенное и как бы “вторичное” явление на фоне всемогущего и всепоглощающего стремления подчеркнуть свою самобытность, несводимость всего русского к “тесным” западным стандартам[1] Согласно этому мнению, русские либералы, подобные К.Д.Кавелину, Б.Н.Чичерину или П.Н.Милюкову, а также радикальные демократы типа В.Г.Белинского, Н.Г.Чернышевского или Д.И.Писарева, по сути дела, повторяли зады западноевропейской мысли, в лучшем случае перетолковывая ее на русский лад, а в худшем — искажая до неузнаваемости. В классических трудах Н.О.Лосского и В.В.Зеньковского по истории русской философии[2] ориентированным на Запад либералам и радикалам, по сути дела, отводится роль талантливых, но лишенных метафизической глубины дилетантов, чья миссия на русской почве была заранее обречена на неудачу. По мнению этих авторов, по-настоящему самобытная, но в то же время претендующая на мировое значение русская мысль появляется не ранее Владимира Соловьева и достигает расцвета в трудах представителей религиозного возрождения Серебряного века, действительно мощного умственного движения, с которым были непосредственно связаны также вышеупомянутые Лосский и Зеньковский. И в самом деле, если речь идет о философской мысли sensu stricto, идеалисты начала ХХ века были во многом правы. Однако мнение о неоригинальности, “нерусскости” или ущербности (несостоятельности) прозападной ориентации в России, попав благодаря стараниям русской эмиграции первой волны в западную интеллектуальную среду, а затем вернувшись в Россию в качестве если не непреложного, то в высшей степени авторитетного суждения во второй половине 1980-х годов, со временем стало расхожим публицистическим аргументом для всех тех, кто сомневается в возможности полноправного вхождения новой России в семью европейских народов или же по каким-либо причинам считает полную интеграцию России с Западом нежелательной, вредной и даже опасной для самого Запада. Многочисленные голоса подобного рода раздаются как на Западе, в том числе в странах Центральной и Восточной Европы, так и в нашем отечестве. Мнения спасителей обоих родов: России от “коварного” Запада и Запада от “коварной” России — сходятся в одном: чтобы понять глубины пресловутой “русской души”[3], следует читать Хомякова и братьев Аксаковых, Аполлона Григорьева и Достоевского, Владимира Соловьева и Константина Леонтьева, Н.А.Бердяева и П.А.Флоренского, но ни в коем случае не Белинского, не Писарева и тем более не либералов, подобных Кавелину и Чичерину, “слишком европейских” и потому якобы мало интересных. Следуя этой логике, желая познать русскую ментальность, не стоит тратить времени на сочинения просвещенного европейца Тургенева, который был близким приятелем Флобера и кумиром Генри Джеймса, а лучше сразу очертя голову броситься в кромешную бездну карамазовщины или посмаковать ужасы ГУЛАГа в сочетании с проповедью соборного всеединства и христианского смирения в его православно-фаталистической версии.
Я весьма далек от недооценки славянофильства и других консервативных мирoвоззренческих комплексов, подвергающих зачастую вполне обоснованной критике либеральный универсализм и поверхностный прогрессизм. Каждый, кто хотя бы немного знаком с историей русской мысли в самых разных ее аспектах — от богословия до экономики и политической тактики, — ни в коем случае не должен игнорировать или приуменьшать значение консервативного органицизма славянофилов и других просвещенных “гонителей Запада” или хотя бы его умеренных критиков для всего последующего развития русского национального самосознания. И тем не менее, сведение всего этого самосознания лишь только к одному его аспекту — можно назвать его почвенническим, русофильским, изоляционистским или националистическим