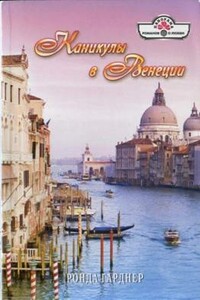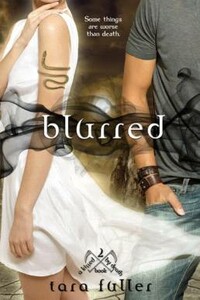Рец. на кн.: Niewiara A. Moskwicin—moskal—rosjanin w dokumentach prywatnych. L– o´dz´, 2006
Niewiara Aleksandra. MOSKWICIN—MOSKAL— ROSJANIN W DOKUMENTACH PRYWATNYCH. — L/ ódz´: Ibidem, 2006. — 184 s. — 300 экз.
“Русские, то есть москали, не были тем, кем были для поляков представители других народов. Встречи с ними не походили на встречи с немцами, евреями, армянами или цыганами, которые жили в наших городах и весях и, будучи “другими”, влияли на нашу общую жизнь: немцы были ремесленниками, евреи и армяне торговали, цыгане пели и плясали. Не думали поляки о московитах — москалях — русских и как о людях, от которых могли бы перенять какие-либо черты или навыки, как, например, остроумие и элегантность от французов, умение легко приумножать богатства от голландцев или демократически править государством от англичан. Они не усматривали в России никакой привязанности к тем ценностям, которые сами они весьма почитали, — допустим, к свободе, как французы или американцы, или к католицизму, как испанцы. В накопленном опыте общения с москвитянами — москалями — русскими доминировал конфликт. Конфликт ценностей, конфликт в сфере политики, национальных интересов. Конфликт Великого княжества Московского, впоследствии Московского царства и, наконец, Российской империи с Речью Посполитой. Авторы дневников и мемуаристы, которые описывали встречи с московитами — москалями — русскими, ни на минуту не могли забыть о существовании этого конфликта <…>. Потому в их сочинениях прежде всего дает о себе знать точка зрения гражданина Речи Посполитой, который смотрит на своего оппонента как на врага, вступающего в военный конфликт с его государством. Будучи выходцами из дворянского сословия (stan szlachecki) и защитниками польского демократического общественного строя, они усматривали в москвитянине — москале — русском деспота и тирана. Будучи же, согласно их представлениям, представителями европейской культуры, они называли его варваром и азиатом. И наконец, последнее: при встрече с иноверцами поляки-католики снабжали их этикеткой с надписью “язычник”” (с. 55).
Приведенный фрагмент книги молодой польской этнолингвистки Александры Невяры, которая посвящена стереотипному портрету жителей Московии и России в частных документах и воспоминаниях поляков в XVI—XIX вв., звучит достаточно красноречиво. Сама же книга, при всей ее несомненной научной объективности (ее основой послужила успешно защищенная кандидатская диссертация), звучит в современном польском интеллектуальном дискурсе как остроактуальный текст. Об углубляющемся конфликте русских и польских интересов, русских и польских нравственных ценностей, русской и польской политики и еще много чего русского и польского ежедневно пишут газеты, вещают радио и телевидение. Но что любопытно: причины противоречий и взаимной неприязни в 90 случаях из 100 ищут в трагической истории одного лишь ХХ в., а из оставшихся десяти в девяти случаях обращают внимание на разделы Польши, на порабощение ее Россией (в меньшей степени — Германией и Австро-Венгрией) и на жестоко подавленные восстания 1794, 1830—1831 и 1863—1864 гг. И лишь в одном случае из ста вспоминают о таких вещах, как Ливонская война, осада Пскова, борьба за Смоленск, Полоцк и Левобережную Украину, а с другой стороны — о моде на польский язык при дворе правительницы Софьи, о массовых переводах польской классики в конце XVII в., о попытке Симеона Полоцкого построить силлабическую систему стихосложения по польскому образцу. Единственное исключение здесь — Лжедмитрий I и последовавшие вслед за его гибелью две польские интервенции: об этом вспоминают чаще и с известной долей самокритики. В связи с такой идеологической направленностью массовой исторической памяти книга А. Невяры имеет большое значение для Польши, поскольку напоминает соотечественникам старую истину, о которой говорил еще Пушкин: “…издревле меж собою / Враждуют наши племена: / То наша стонет сторона, / То гибнет ваша под грозою” (“Графу Олизару”, 1824; курсив мой. — В.Щ. ). Все было бы слишком просто и ясно, если бы образ русского варвара (“калмыка”, “татарина”, “мужика”, “язычника” — вариаций на эту тему было, как вытекает из собранного автором материала, предостаточно) появился в польском интеллектуальном сознании после трагического 1795 г., когда перестала существовать Первая Речь Посполитая. Многое можно понять, оправдать, а несправедливое простить в болезненно возбужденном воображении народа, лишенного отечества силою оружия и политических интриг. То же самое касается и ХХ века. Но ведь москаль-азиат, москаль-невежда, москаль-захватчик, москаль-тиран, москаль-христопродавец появляется в дневниках и путевых записках поляков и в XVI, и в XVII в., когда ни о каких притеснениях поляков со стороны России не могло быть и речи. Добавлю от себя (в монографии А. Невяры этого нет), что и раньше, в XV в., а значит, еще до установления самодержавной формы правления, Ян Длугош, а за ним Мацей Меховский писали о московитах примерно так, как в XIX в. европейцы писали об австралийских аборигенах, — как о несчастных дикарях (с позиции представителей высшей цивилизации). О нет, карикатурный портрет “москаля” — это не только месть за поруганную Польшу, не одно лишь орудие патриотической пропаганды; это куда более старинный, более глубокий по своему психологическому значению плод коллективного воображения польской элиты. Изучить его структуру, составные элементы, многоплановую и не всегда однозначно одиозную семантику, логику постоянства и изменчивости (ведь несмотря на очевидные исторические модификации, определения типа “раб”, “империалист” или “наследник Чингисхана” звучат как в XVI, так и в XXI в.) — такова была задача автора книги. И задача эта в основном выполнена.