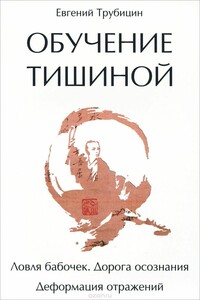Генри Джеймс был тем редким писателем, который решился поставить в литературной форме — мы имеем в виду его роман «Узор на ковре»[1] — вечный и щекотливый вопрос взаимоотношений писателя (а значит, и текста) и его критика. Джеймс далек от констатации заведомой непостижимости тайны искусства слова как причины неизбежной несостоятельности критика. Он утверждает два принципа, идущие вразрез с расхожим представлением о непостижимости законов творчества и искуства слова. С одной стороны, Джеймс считает, что каждое произведение литературы имеет особую цель, понять которую и есть изначальная обязанность критики. С другой стороны, «секрет», тайна литературы не запредельна и не трансцендентна, поэтому задача критика не погружаться в экстатическое молчание, а раскрыть эту тайну Джеймс находит очень конкретную и материальную метафору: литература — ковер, а узор на ковре становится видимым, если подобрать к нему ключ. Этот узор «реален, как птица в клетке, червяк на крючке, кусочек сыра в мышеловке»[2], — утверждает он, но нужно найти мотив, некую соединяющую нить, некую закономерность. Искать и находить в литературном произведении то, что пока еще не раскрыто, — вот, по мысли Джеймса, главная задача критики.
Когда в его романе писатель заявляет критику, что, несмотря на свою проницательность, утонченный толкователь «вновь прошел мимо главного в произведении», не понимая даже смысла литературного замысла, разочарованный критик просит: «Помогите мне! Дайте хоть какой — то намек, чтобы ускорить мучительное рождение истины!» — «Вы никогда не замечали главного, но если бы однажды его разглядели, то не видеть впредь были бы уже не в состоянии, — отвечает писатель. Для меня это главное столь же осязаемо, как осязаем мрамор этого камина». Отстаивая профессиональную честь, критик добросовестно перечисляет находящиеся в его распоряжении возможности истолкования. «Вы имеете в виду некое эзотерическое послание? Особую философию?» — спрашивает он, не сомневаясь, что в тексте нужно искать большую глубину смысла, скрытую за очевидным. «Главное… Оно в вашем стиле или в идеях? Мы можем увидеть его благодаря форме или ощутить, благодаря эмоциям?» — продолжает он, возвращаясь к извечной дихотомии формы и содержания. Затем в отчаянии выдвигает новое предположение из области чистой формалистики: «Вполне возможно, главное для вас стилистические поиски, игра слов, эксперименты с языком? Может быть, вы отдаете предпочтение букве «п»? Папа, папоротник, пижама: я прав?». «В моем произведении, — отвечает романист, — есть идея, без которой вся работа потеряла бы для меня всякий интерес. Тончайший и наиболее удавшийся мне замысел. Он заметен лишь в соотношении с общим планом произведения, как мотив сложного узора персидского ковра». Благодаря искусному сочетанию элементов, «во всей их роскошной сложности», мотив стал чем — то вроде украденного письма: у всех на виду и никому не заметен. «Поверьте, — утверждает писатель в романе Джеймса, — я нисколько не старался спрятать этот мотив, больше того, не предполагал, что он может сделаться невидимым».
Критикуя критику и присущие ей методы анализа, автор «Узора на ковре» предлагает пересмотреть сами эстетические основы, на которых она базируется, найти новую перспективу. Критик Джеймса, лихорадочно стремясь разгадать тайну произведения, ни разу не задумывается о сути вопросов, обращаемых им к тексту; ему не приходит в голову, что предрассудок об уникальности, исключительности и изолированности каждого литературного произведения превращает его в слепца. По сути дела, можно сказать, что литературные критики исповедуют радикальный монадизм: для них текст преставляет собой некое совершенное единство и соотносится только с самим собой. Критик — истолкователь собирает эти уникальные экземпляры и выстраивает их во временной последовательности, рожденной случаем, создавая то, что именуется «историей литературы».
Джеймс предлагает критику совершенно иное решение: искать «узор на ковре», некий рисунок, некую композицию.
Тогда очертания и элементы узора внезапно выступят из мнимого хаоса беспорядочных переплетений не потому, что критик привнес туда что — то извне, а потому, что найдет правильную точку зрения и на ковер, и на литературное произведение. Если изменить критическую перспективу, посмотреть на текст издалека, с расстояния, которое позволит охватить взглядом весь ковер целиком, есть шанс увидеть на нем повторяющиеся формы и отметить их сходство или отличие, а значит, уловить те особенности, частички узора, которые критик стремится найти. Предрассудок, состоящий в том, что каждый литературный текст принципиально изолирован, мешает увидеть, как выразился Мишель Фуко, «целостность рельефа», частью которого каждый текст, по существу, является. Укоренившись, этот предрассудок мешает учитывать контекст, то есть всю совокупность текстов, произведений, литературных споров, эстетических дискуссий, с которыми входит в резонанс данное произведение, благодаря чему и возникает его особенность, его подлинная оригинальность.