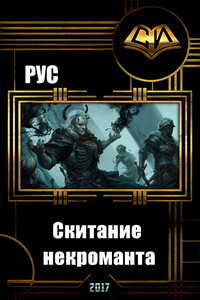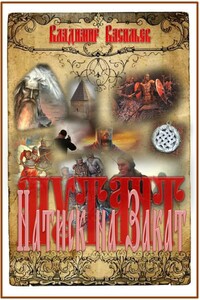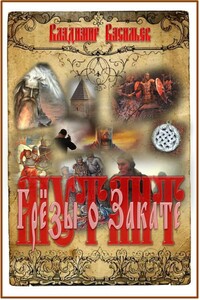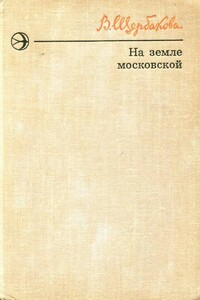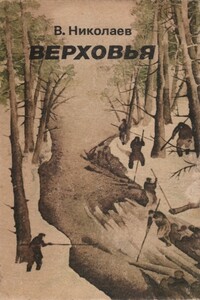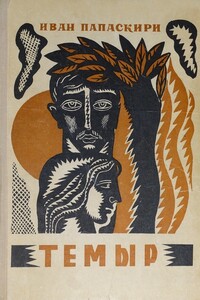Когда с неширокой дороги, разбитой колесами, где, несмотря на осень, в мягкой, как мука, и теплой, как остывающая зола, пыли тонут босые ноги, ступишь вдруг на бойкую, утоптанную, словно ток, тропинку, сразу почувствуешь, как холодно сделалось подошвам, и удивишься, что сентябрь в свои долгие, росные и уже зябкие ночи успел так выхолодить землю, что и ласковое пока еще солнце не успевает нагревать даже вот эту узкую тропку за укоротившийся, скупо отведенный ему предзимьем день. Летом, в какой-нибудь знойный полдень, когда хочется побыстрее окунуться в воду, такой холодок радостно успокоил бы загорелые ноги, которые от солнца и пыли начали шелушиться, а теперь; осенью, это уже не нравилось.
И я побежал быстрее. Но вскоре замедлил бег и перешел на обычный шаг, которым до этого привычно топтал пыльный шлях, — ни быстро идти, ни тем более бежать бегом по тропке нельзя было, ибо на ней, утоптанной чуть ли не до блеска, каждый малюсенький камешек или даже крупинка засохшей земли больно кололи ноги.
Кругом тихо, уже успокоенно радовалось теплыни и солнцу поле.
Давно повыгорали, повылиняли травы, цветы, деревья, поблекло даже небо, и все это, казалось, было сейчас одного рыжего цвета — как солнце. Рыжей была недавно и стерня и небольшие, не свезенные еще стожки соломы, но теперь они успели почернеть и не так светились на опустевшем поле. Только впереди на самом верху пригорка, на бугре, где зимой всегда крутили метели и где я, ежедневно шагая в Новые Вербы, помечал стежку еловыми лапками, чтоб потом, возвращаясь, не сбиться с дороги и не забрести куда-нибудь в Лапысицу, что спряталась вон за тем молодым сосенником, — только там, впереди, светло, как моя остриженная голова, белело овсяное жнивье: овес сжали недавно, дождей эти дни не было, и потому оно не успело еще почернеть.
Этой тропинкой мне нравилось ходить — особенно летом, когда шумят колосья в поле. Как только свернешь на нее с дороги, пройдешь немного вперед — и уже за тобою, за стеблями, скрылась дорога, и ты один среди густых хлебов, задравши голову, глядишь на колосья, которые, наклонившись над стежкой, тихо покачиваются где-то вверху. Идешь — и одной рукой легонько ведешь по ребристой стене ржи, стеблинки податливо и пружинисто выпрастываются из твоей ладони и еще долго, шепотливо шумят там, где ты прошел.
Я жалел, что у меня была свободна только одна рука. Но, смирившись с этим, наловчился и одной рукой срывать колоски, и, помогая себе ртом, лущить их. Другая была у меня всегда занята — я нес в свою деревню аккуратно связанные бечевкой газеты, письма и переводы, которые получал в сельсовете.
Вот почему я ежедневно хожу в Новые Вербы: я ношу почту.
В начале лета, когда колосья уже хорошо наливались, но еще не твердели, созрев, я срывал их целый пучок и, дойдя до ручья, который вон прячется за косогором, в лощине, там, в ольшанике, раскладывал небольшой костер — жарил их. Многие зеленые соломинки перегорали раньше, чем поспевали дойти все зерна, и тогда колоски один за другим падали в костер. Я выгребал их из огня, из пепла, а потом, вылущив на черную закопченную ладонь, смакуя, кидал в рот теплые, набухшие, сладкие зернышки. И сегодня много их, летних моих кострищ, чернеется в ручье.
Право же, смешно слушать про костры в ручье?
Но ничего удивительного тут нет: просто ручей, который тек откуда-то из-за Лапысицы и когда-то был, может, даже рекою, потом пересох. И никакой воды в нем совсем не бывает, кроме как в дни весеннего разлива, когда мне никак не перейти новую реку, да, может, еще после сильного летнего ливня, когда в низких местах здесь, в траве, собираются небольшие лужицы теплой, ленивой и белой от пены воды…
Дорога домой всегда короче, чем из дому. Я и не заметил, как прошел косогор, где еще пахло свежей соломою, спустился к ручью, — с горы же всегда ноги бегут легко.
В низине было тихо и солнечно, тепло и сонно — ветерок кружил где-то вверху, и его дуновение сюда не доходило. Здесь, в густом запахе опавшей и согретой листвы, было даже немного душновато.
По одинокому цветку клевера, который, видно, зацветал второй раз, торопливо ползла пчела — словно катила своими лапками этот клубочек. По тому, как цветок податливо пружинил под нею и слушался ее цепких, как репьи, лапок, возникало ощущение их слитности: казалось даже — цветок знает, что нужно пчеле…
Я аккуратно положил связанные газеты возле своего кострища, которое с краев успело уже зарасти травою (давно не жарил на нем колосков!), сбросил кепку, лег на облюбованное место, где всегда отдыхал, и вгляделся в далекое, высокое небо. Теперь оно было уже не такое далекое и глубокое, как, скажем, летом либо весной, когда аж сердце заходится от его бескрайней и даже страшноватой глубины, когда сердцу бывает тесно от его голубого бездонья и ширины. Теперь небо, хоть на нем все еще щедро светило солнце, было какое-то по-осеннему безразличное, утомленное, а облака — высокие, серые, клубящиеся, неровные — точно борозды, которые пахал кто-то немного подвыпивший.