Крыло тишины. Доверчивая земля - [3]
Тетка Евка прочитала то письмо, и к вечеру о нем знала уже вся деревня. Оно было и вправду странноватое. В нем строго было написано: перепиши, мол, это письмо четыре раза и пошли новые листы своим четырем очень близким или хорошо знакомым людям. Перепиши его еще четыре раза, замеси хлеб, запеки листы в четырех буханках и отдай их очень надежным, очень знакомым тебе людям — чтоб они сделали то же самое. Если же ты не послушаешься письма и не сделаешь того, что в нем написано, тебя ожидает тяжкая кара и ты будешь мучиться всю жизнь. И в конце, после точки, было приписано: «Сучка ты!» — видимо, тот, кто переписывал письмо, добавил это от себя.
Святое письмо напугало не только Туньтиху, но и многих женщин из нашей деревни. Потому что обычно, когда приходили в деревню такие письма, их было всегда пять, а то одно.
Хотя Туньтиха и так мучилась в своей землянке, но большего горя, понятно, ни один человек не хочет — все же думается про лучшее.
Туньтиха встревожилась. В письме так строго приказано четыре раза переписать его, а как сделать это ей, неграмотной женщине? В письме говорится, что надо испечь четыре буханки хлеба, а из чего их испечь, когда двух мешочков ячменя, что, обив вальком колосья, она собрала со своей полоски, ей с двумя детишками и самой не хватит до рождества.
Женщины с обоих концов деревни ходили к Туньтихе, что-то советовали ей, но что советовали, я пока еще не знал.
В пачке треугольников было еще одно письмо, которое меня немного беспокоило. Письмо это писал бабке Хадосье ее старший брат, который на старости лет неожиданно пошел в примаки в какую-то дальнюю деревню за Оршу и сейчас жил там со своею слепою женой. Он не умел особенно писать, а потому в письме обычно было два-три слова, написанные большущими, печатными, кривыми-кривыми буквами: «Живой. Пожал. Матвей». Я знаю, как долго разбирает эти три слова бабка Хадосья. Хотя, честно говоря, разбирать приходится только одно слово — среднее, где всегда будет какое-нибудь новое сообщение («покосил», «смолотил», «отелилась», «посеял»), а два остальные — «живой» и «Матвей» — никогда не меняются. Но бабка Хадосья все равно сидит над ними чуть ли не полдня, все шепчет губами — как будто молитвы читает, — потихоньку складывает буквы в слова, пока не вычитает все письмо. Бабка Хадосья тоже почти неграмотная. Тут всегда было тяжело не только тому, кто писал письмо, но и тому, кто его читал.
Меня же беспокоило другое. Вчера вечером мы потолкались на «муравейнике», попылили босыми ногами на выгоне, а когда наши девчата, подразнившись, побежали по домам, мы с хлопцами пошли в Хадосьины сливы. Я стоял как раз на изгороди, когда бабка Хадосья закричала:
— Ах ты сорванец! Что делаешь, безобразник!
Я тотчас хотел соскочить на землю, но в штанину попала штакетина, и я опомнился только на земле, когда уже на мне лежала вся изгородь — даже и не почувствовал, как она хрястнула. Хотя и убежал, но был уверен, что Хадосья меня узнала: еще бы не узнать, когда такая лунная и светлая ночь тихо шелестела вчера над садами!
Как мне отдать письмо? И что делать, если она заговорит про сливы? Я сразу покраснею и выдам себя — застесняюсь, опущу глаза. Я и в школе, когда у кого пропадет карандаш и учительница спрашивает, кто его взял, опускаю глаза и густо краснею: мне кажется, все думают, что это сделал я. После этого все смотрят на меня настороженно и с подозрением: «Глядите, Ясь покраснел», — а тот, у кого украли, пристает уже ко мне с короткими гужами: отдавай — и все, хоть я того карандаша и в глаза не видел. А в сливах же я был и в самом деле!
И надо же этому Матвею как раз сегодня прислать свое: «Живой. Пожал. Матвей»!
Солнце было уже низко. Оно, казалось, село на пригнутую невдалеке от меня травинку, которая, пружиня, согнулась от этого еще больше.) Я, словно зачарованный, глядел, как тяжело и неспешно катится оно по этой зеленой ленточке-листочку, и даже, чудак, ждал, что же будет дальше: обломит оно травинку или нет? Но ничего особенного не случилось: красное колесо медленно, плавно скатилось с травинки, та выпрямилась и, кажется, даже закачалась… А может, она закачалась только потому, что до нее долетело дуновение ветра, который все еще шелестел где-то вверху.
Возле кустов начинал уже клубиться туман. Видимо, потому, что в этой низинке всегда безветренно, седой туман раньше всего начинает кудрявиться именно здесь и здесь он позднее рассеивается. Когда теплым и парным летним вечером с душной тропки входишь в такую лощину, сразу чувствуешь, как обволакивает тебя холодок, как туман липнет к твоим голым рукам, цепляется за волосы, и даже через майку чувствуешь, как он ходит по телу. А выберешься из тумана — и теплый, ласковый ветерок снова приятно овевает тебя — ласкает твои руки и лицо, которые уже успели немного повлажнеть, захолодать…
Я быстро поднялся — надо же до захода солнца успеть разнести газеты и письма, а может, и сделать уроки.
Предо мною, как паутина, в разные стороны разбегались тропинки. Почему-то именно здесь, в пересохшем ручье, они встречались и потом, видно, чуть постояв одна с другой, а то и пройдя немного рядышком, обменявшись новостями, расставались, разбегались к дорогам в разные деревни. Тропинки — это те же ручьи, которые внимательно, будто обнюхивая, выбирают самый короткий, самый лучший путь и впадают в реки. Кстати, а куда впадают сами тропинки? Конечно же в дороги: петляют, петляют, покуда не уткнутся носом в какой-нибудь пыльный шлях.
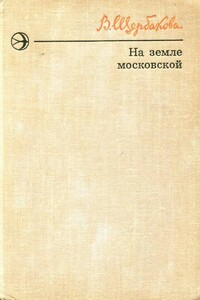
Роман московской писательницы Веры Щербаковой состоит из двух частей. Первая его половина посвящена суровому военному времени. В центре повествования — трудная повседневная жизнь советских людей в тылу, все отдавших для фронта, терпевших нужду и лишения, но с необыкновенной ясностью веривших в Победу. Прослеживая судьбы своих героев, рабочих одного из крупных заводов столицы, автор пытается ответить на вопрос, что позволило им стать такими несгибаемыми в годы суровых испытаний. Во второй части романа герои его предстают перед нами интеллектуально выросшими, отчетливо понимающими, как надо беречь мир, завоеванный в годы войны.

В сборник известного советского прозаика и очеркиста лауреата Ленинской и Государственной РСФСР имени М. Горького премий входят повесть «Депутатский запрос» и повествование в очерках «Только и всего (О времени и о себе)». Оба произведения посвящены актуальным проблемам развития российского Нечерноземья и охватывают широкий круг насущных вопросов труда, быта и досуга тружеников села.

В сборник вошли созданные в разное время публицистические эссе и очерки о людях, которых автор хорошо знал, о событиях, свидетелем и участником которых был на протяжении многих десятилетий. Изображая тружеников войны и мира, известных писателей, художников и артистов, Савва Голованивский осмысливает социальный и нравственный характер их действий и поступков.
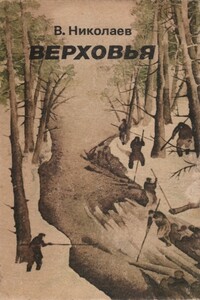
В новую книгу горьковского писателя вошли повести «Шумит Шилекша» и «Закон навигации». Произведения объединяют раздумья писателя о месте человека в жизни, о его предназначении, неразрывной связи с родиной, своим народом.
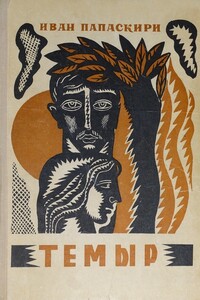
Роман «Темыр» выдающегося абхазского прозаика И.Г.Папаскири создан по горячим следам 30-х годов, отличается глубоким психологизмом. Сюжетную основу «Темыра» составляет история трогательной любви двух молодых людей - Темыра и Зины, осложненная различными обстоятельствами: отец Зины оказался убийцей родного брата Темыра. Изживший себя вековой обычай постоянно напоминает молодому горцу о долге кровной мести... Пройдя большой и сложный процесс внутренней самопеределки, Темыр становится строителем новой Абхазской деревни.

Источник: Сборник повестей и рассказов “Какая ты, Армения?”. Москва, "Известия", 1989. Перевод АЛЛЫ ТЕР-АКОПЯН.