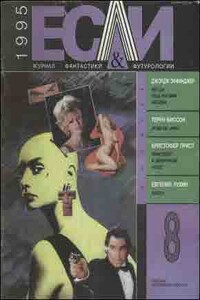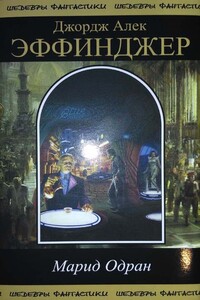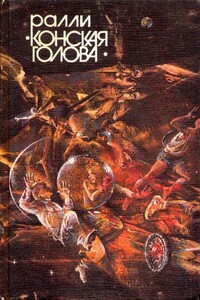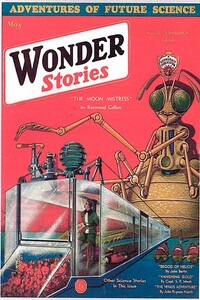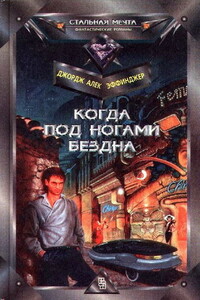В западной части небосклона над переулком виднелся ясный серпик только-только родившейся луны. Джехане было немногим меньше двенадцати лет, ей еще не полагалось носить паранджу, но тем не менее она ее всегда одевала. Никогда прежде она не бывала на улице одна так поздно. Она слышала отголоски веселого празднества – трехдневного пиршества, знаменующего конец священного рамадана. Два пьяных голоса приблизились и удалились, два других голоса, явившись им на смену, принялись громко и сердито обсуждать цену каких-то медовых пончиков. Смех и пьяные крики казались Джехане звуками иного мира.
В прошлом она всегда любила праздник Ид-эль-Фитр, хоть никогда в нем и не участвовала. Странным ей казалось теперь, что кто-то его еще отмечает, раз сама она утратила к нему интерес. В этот год у нее были дела поважнее.
Она вздохнула, передернула плечами.
Праздник придет снова. Всего через год.
Она была одна в ночи, если не считать молодого месяца. На ней была синяя с черным бурка, и под одеждой тело ее дрожало мелкой дрожью.
Джехана Фатима Ашуфи углубилась в переулок еще на несколько шагов – подальше от уличного света. По всей улице люди, которых обыкновенно в этом квартале поди сыщи, веселились напропалую.
Джехана снова вздрогнула, прислушалась, подождала немного.
Рассвет.
Это случится на рассвете. Сейчас небо уже достаточно темное, чтобы видны были луна и несколько звезд. В исламском мире, впрочем, ночь начинается, когда невозможно отличить белую нить от черной; значит, сейчас еще не ночь.
Джехана левой рукой оправила бурку, закутываясь теснее. В правой руке, скрытый длинным рукавом, был зажат изогнутый, остро отточенный клинок: его Джехана стащила из отцовской комнаты.
Она проголодалась. Будь у нее деньги, Джехана, конечно, купила бы немного еды, но... В Будайене[1] многие девочки ее возраста уже знали, как зарабатывать деньги, Джехана к ним не относилась. Она огляделась и различила только покрытые толстым слоем грязи и ила булыжники брусчатки. В переулке воняло так, что девочка ощутила прилив тошноты. Она очень устала. Она была совсем одна и страшно боялась.
Затем окружавший Джехану мерзкий, грязный, нищий, отвратительный мир растаял, превратившись во что-то совершенно незнакомое. Видимость сразу стала лучше.
* * *
Фатиме Ашуфи было двадцать шесть лет. Она носила консервативный темно-серый шерстяной костюм. Вообще одежда ее не соответствовала моде и была куда строже, чем стоило ожидать от талантливой молодой аспирантки физического факультета. Она не пользовалась украшениями, а черные волосы заплетала в длинную, ниспадавшую по спине косу. Каждое утро ей приходилось потрудиться, одеваясь как можно проще для выхода «в свет» со своим знаменитым наставником и другом. Это он, Гейзенберг, подкинул ей такую идею: кто в наши дни поверит, что такая красавица вдобавок и выдающийся ученый? Но Джехана вскоре поняла, что все эти старания пропали втуне. Смуглая кожа и тяжелый акцент безошибочно выдавали в ней иностранку, хуже того – неевропейку, скорее всего, с Восточного Средиземноморья, и почти все, кто попадался ей на пути, принимали ее за еврейку. Дело было в Германии, в Геттингене, в 1925 году.
Она сидела на университетской физической конференции под председательством Макса Борна, который первым ввел в оборот выражение «квантовая механика» – случилось это два года назад. Физики обсуждали новейшие результаты Макса Планка в теории излучения. Планк подошел вплотную к идеям квантовополевой физики, но для описания взаимодействия света с веществом продолжал использовать классическую ньютонову механику. Подход этот явно не был адекватен проблеме, но другого пока никто не предложил. На Геттингенской конференции присутствовал также Паскаль Йордан, который как раз в этот момент выступал с компромиссным решением. Прежде чем Борн, декан факультета, успел ответить ему, Вернер Гейзенберг неудержимо расчихался.
– Вернер, с тобой все в порядке? – спросил Борн.
Гейзенберг только рукой замахал. Йордан попытался было продолжить, и тут Гейзенберг расчихался опять. Глаза его покраснели и слезились. Он был в отчаянии.
– Дже-апчхи! -хана... – пробормотал он, повернувшись к аспирантке, – займись тут... мне надо выйти... чертова – апчхи! –сенная –апчхи! – лихорадка...
– Но коллоквиум... – заикнулся кто-то.
Гейзенберг встал.
– Вы – апчхи! – можете сказать Планку, чтобы – га-га-апчхи! – проваливал к дьяволу и забирал с собой де Бройля и его волны материи. Апчхи! Нет, пожалуй, и Бора – апчхи! – тоже с его идиотскими прыжками электронов. У меня – апчхи! – уже аллергия на них. Апчхи!
Пошатываясь, Гейзенберг добрел до порога, выдавил дверь и исчез в коридоре. Джехана осталась на несколько минут, сделав в блокноте пару заметок, потом вышла следом за Вернером.
* * *
В Будайене не было минаретов, но квартал внутри крепостных стен изобиловал мечетями. С высоких древних башен раздавались сильные голоса муэдзинов, призывавших к молитве.
– Молитесь, молитесь! Лучше молиться, чем спать!
Прижавшись к мрачной каменной стене, Джехана слушала выкликания муэдзинов. Слова влетали ей в одно ухо и вылетали через другое. Она смотрела на труп, валявшийся у ее ног. То был мальчик, старше ее на несколько лет, и она уже видела его в Будайене, хотя и не знала по имени. В руке девочки был зажат кинжал, которым она его и убила.