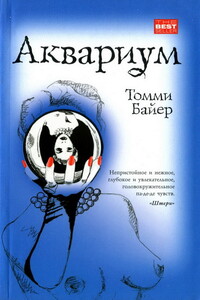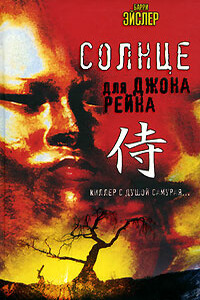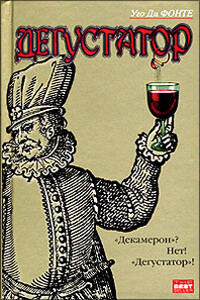После аварии я стал другим человеком. Дружеские связи разбились о недостаток слов. Просто болтать я разучился и либо вовсе не отвечал на вопросы, либо чересчур близко к сердцу принимал пустяковые замечания. Тогда все на несколько секунд умолкали и, лишь преодолев неловкость, возвращались к плетению словесных кружев, предназначенных исключительно для выражения взаимной симпатии. Я не мог не только понять их, но даже просто слушать. Как бессмысленную музыку в магазинах, туалетах и саунах.
Я чудом вывернулся из-под косы смерти, но ценность жизни для меня не увеличилась, мне было все равно. Брешь, оставшаяся на том месте, где прежде был я, затянулась бы без особых проблем. Скупые слезы нескольких человек; мебель, переставленная домовладельцем; выброшенная на помойку одежда; пластинки и диски, сданные в секонд-хэнд; попавшие к букинисту книги и письма — их, конечно, не выбросишь, но можно упаковать в коробку, которую никто больше никогда не откроет. Постепенно мое имя перестало бы возбуждать любопытство. Меня больше не было, но мир ничего не потерял.
Ощущение одиночества мне нравилось. Если меня и тянуло к людям, то только к незнакомым. Я наблюдал за ними, будто из прикрытия: в кино, ресторанах, кафе. Время остановилось, потому что я больше ничего не ждал. И еще — страшная усталость. Вот, значит, что такое свобода. По крайней мере одна из ее разновидностей — моя.
Взявшись за карандаш еще в больнице, я обдумал, как перестроить квартиру. В полном согласии с собственными эстетическими предпочтениями, которые прежде, игнорировались, решился наконец воплотить в жизнь все, что считал красивым. Белая плитка, бледно-розовый пол, массивная сантехника в ванной, кухня из натуральной березы, встроенные шкафы с утопленными в стену дверцами из вишни и латунными ручками. Никаких компромиссов в деталях. Каждому предмету мебели, каждой лампе, розетке, дверной ручке я уделял столько времени, сколько было необходимо, чтобы подобрать именно то, что идеально вписывается в общую картину. Многие вещи делались на заказ, причем от некоторых пришлось впоследствии отказаться, когда выяснилось, что их размер, структура или рисунок диссонируют с окружающей обстановкой.
Я приобрел несколько белых полотен хорватского художника, как нельзя лучше соответствовавших мягкой чистоте целого, и понял, что мне удалось создать оазис покоя и метафизической углубленности. Интерьер, высвобождающий дух и успокаивающий биение пульса.
Покой был столь величествен, что у меня ни разу не возникло желания потревожить его музыкой. Я снял со стены колонки, раз и навсегда отдав предпочтение наушникам, если уж захочется что-нибудь послушать. Теперь такое случалось редко. Ведь на протяжении почти двадцати лет музыка лилась через меня непрерывным потоком. Требовалась пауза.
Привыкнуть к тишине оказалось непросто. Разрабатывая пальцы, я часами стоял у окна и наблюдал за жизнью соседей. Завидовал, что у них есть дела, которые нужно сделать: свозить кошку к ветеринару, ровно в час дня накрыть стол к обеду, забрать из ремонтной мастерской телевизор до начала матчей Лиги чемпионов, — они все время спешили, и это привязывало их к жизни. Меня не привязывало к жизни ничто.
Постепенно я привык. И просто ждал. Какого-то знака — знака, что пришло время снова в полную силу вырабатывать адреналин и отправляться на поиски смысла. Пока смысл был только в том, чтобы растягивать поврежденные связки, укреплять ослабевшие мышцы, существовать.
Тренажер состоял из четырех клавиш, ручки и натянутой между ними пружины, напряжение которой можно было постепенно усиливать. По своей механике он напоминал сумки, которые в прежние времена висели на груди кондуктора. Нажатием клавиши высвобождалась монетка, падавшая в подставленную ладонь словно выигрыш. В детстве мне это очень нравилось. Я протягивал кондуктору монету в две марки, а взамен получал целых четыре монетки: одну марку и три медные. И чувствовал себя богаче, чем прежде.
У себя на шестом этаже я подолгу стоял у окна, глядя вниз, на перекресток, или в окна соседей и размышляя о самых неожиданных вещах — невозможно ведь совсем ни о чем не думать. Я по крайней мере не умею. Разве только если слушаю музыку. Но и тогда перед глазами постоянно встают образы музыкантов, инструментов, залов, а это тоже мысли.
К примеру, я раздумывал, как могла себя повести одна из женщин, виденных мной на многочисленных порносайтах в Сети, если бы кто-нибудь ее узнал. Послушайте, девушка, ведь это вы засовывали себе чудовищный огурец, ну просто отпад, и вам не было больно? Интересно, доставил бы ей удовольствие мой вопрос? Что бы она сделала? Улыбнулась? Быстро-быстро заморгала от удивления? Или все они настолько тупы, что даже не рассматривают такой возможности? Или наоборот, достаточно умны и рассуждают примерно так: почему из нескольких тысяч женщин, которые обнажаются перед миллионами мужчин, узнать должны именно меня?
О мужчинах я почему-то не думал.
Иногда я размышлял об «аквариуме», называя так мысленно квартиру напротив, пустовавшую уже почти два месяца. В первое же воскресенье после того, как съехали прежние жильцы, пара голубых, там долго крутилась платиновая блондинка лет пятидесяти с хвостиком. Из тех, у кого дома пудель и парчовые портьеры. Она диктовала своему прилизанному помощнику, неотступно следовавшему за ней, длинный список того, что необходимо переделать. Если туда въедет она, подумал я, об этих окнах можно забыть. Но потом понял: она — хозяйка квартиры. По какой-то презрительной торопливости ее движений я догадался, что блондинка не собирается тут жить, просто хочет сделать небольшой ремонт и поскорее снова сдать квартиру.