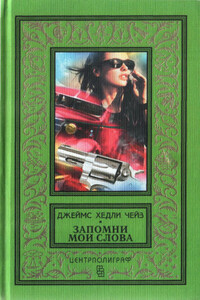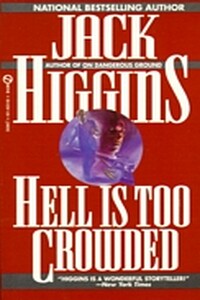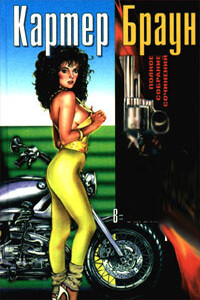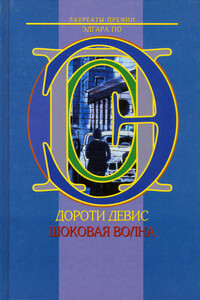Он смолк, хватая ртом воздух. Плечи затряслись от распиравшей его изнутри ярости. Закрыл глаза и стиснул кулак так, что, не будь ногти так коротко острижены, они пропороли бы кожу до крови.
Уже не только лицо, но и шея за воротом рубашки потемнела от прилива крови, как грозовая туча, которой никак не пролиться облегчающим ливнем. Крепко зажмурившись, сжав кулаки, еле-еле размыкая сведенные судорогой челюсти, он отрывисто произносил:
— Найдите его... Я хочу, чтобы он сдох. Чтобы сдыхал долго. Как можно дольше. Моя Антонетта... она — как потерянная... Ей не оправиться до конца дней... Потому что этот трусливый ублюдок, этот monstro[1]...
Я сидел тихо и не пытался успокоить маленького человечка в черном костюме. И не останавливал его — даже не пытался, хотя это бы мне вряд ли удалось. Мне приходилось слышать о Шефе. Думаю, на всем Восточном побережье не нашлось бы такого, кто не слышал о нем.
Это прозвище дала ему одна бойкая бульварная газетенка, смекнувшая, как сделать этот ужас ежедневной приманкой для читателей и статьей дохода для себя. О такой сенсации нью-йоркские щелкоперы и мечтать не могли.
За полтора месяца Шефу удалось вогнать город в столбняк — по крайней мере, ночами. Раз в неделю он убивал женщину. Находил, увозил куда-то, насиловал, убивал. Насиловал, страшно мучил и убивал. У газетчиков, радио-и телерепортеров настала страдная пора. Печатали и пускали в эфир каждую версию, каждый слух, каждую подробность.
Они не давали вздохнуть ни полиции, ни родственникам и близким погибших. Они приставали к прохожим на улице: «Как, по-вашему, где произойдет следующее убийство?.. Зачем, по-вашему, он это делает?.. Какую цель преследует?..» Одна телекомпания взяла интервью у известной прорицательницы мадам Тарны, которая предсказала тип будущей жертвы, место и время планируемого преступления. Все совпало. А потом он прислал на студию письмо, где благодарил мадам — к вящей радости соперничающих телекомпаний — за плодотворное сотрудничество. Больше к помощи ясновидящих не обращались.
Но тиражи и размер аудитории не снижались. Прежде чем завести речь о России, о предстоящих выборах, о ценах и налогах, о заурядных убийствах и ограблениях, публике рассказывали о Шефе. А публика желала быть в курсе дела — не пропускала выпуски новостей, не выключала приемники и ждала, когда ведущие со столь характерным для них натужным остроумием передадут очередное сообщение о Шефе, — ждала, затаив дыхание от страха. Шеф задевал за живое. Ибо раз в неделю он похищал женщину. Ибо он пытал свою жертву, насиловал ее, резал ее на куски и поедал.
Да-да, он отсекал самые лакомые куски, брезгуя пальцами, ушами, грудями, бедрами, почками. Потом бесформенную груду мяса, бывшего когда-то нежным женским телом, находили на каком-нибудь пустыре, а сам он — судя по письмам, которые рассылал по студиям и редакциям, — набивал свой морозильник сердцами, печенью, мозгами. Все аккуратно уложено в мешочки, каждый мешочек надписан — имя, дата, содержимое.
Человечка в черном костюме, сидевшего напротив меня, звали Джонни Фальконе. Сегодня в девять утра он похоронил дочь, отвез домой жену, поручил сыновьям отбиваться от репортеров, продолжавших выспрашивать все новые и новые подробности, а сам приехал ко мне. Теперь он сидел напротив, впившись в меня своими черными глазами, и я физически ощущал жгучие волны исходящей от него ненависти. Он сидел напротив и требовал, чтобы я отомстил, и даже не подозревал, что я ничем не смогу ему помочь.
— Мистер Фальконе, — начал я. — Дело в том, видите ли...
— Я заплачу! Заплачу, сколько скажете. Сколько бы ни было! — Он хлопнул ладонью по столешнице и взмыл со стула, как волна, чуть не отбросившая меня к стене. — Вы сказали, что стоите двести в день, — я вас покупаю. Найдите его! Убейте его! Вот и все! Это ваша работа! Берите деньги! Ищите его!
Я не обижался на его слова. Фальконе ни в чем не виноват. Его заставил прийти ко мне самовлюбленный маньяк-людоед, терроризирующий город. Захлестнувшее Нью-Йорк безумие ворвалось и в жизнь Фальконе, намертво впилось в него, словно лапа якоря. Он ошибся, он принял бакен за маяк. Я попытался объяснить ему, что это — дело полиции. Прессе вряд ли понравится, если кто-то, не удовольствовавшись телевидением, решит отбить у нее хлеб. Да и зрелища, приносящие такие доходы. Да и полиция будет выглядеть некрасиво — еще некрасивей, чем обычно. А она этого постарается не допустить.
— Поймите, мистер Фальконе, власти бросят на поимку этого негодяя все имеющиеся у них в наличии силы и средства. Зачем вам нанимать меня? Мне за полицией не угнаться. К частникам приходят, когда полиция на хочет заводить дела или ведет его спустя рукава. Это происходит постоянно. Но в данном случае все обстоит иначе. Поймать мерзавца — для них дело чести. И они его поймают.
— Да? Поймают? Поймают — а потом? Приведут к нему психиатра? Положат на кушетку и начнут расспрашивать о тяжелом детстве?! Мой отец работал как вол всю жизнь — мы его почти не видели. Моя мать лупила нас каждый божий день. Я сам вкалываю с восьми лет! А в десять — уже лишился отца. Когда мне было пятнадцать, умерла мать. Мне не на кого было рассчитывать. Мне в жизни тяжко приходилось, да и только ли мне? И братья, и сестры, и все соседи — всем было несладко. Но этому гаду позволено разгуливать по городу и убивать, убивать, убивать! А все отделываются шуточками! Сочиняют про него анекдоты. И посмеиваются, зная, что в тюрьме он посидит недолго. Про него неизвестно ничего, но это все знают точно. Все знают, мистер Хейджи, что его освободят, именно потому, что он — чудовище, зверь! Именно поэтому с ним все будет в порядке! Когда это началось, мистер Хейджи, можете вы мне сказать? Когда мы стали с людьми обращаться как с животными, а с диким зверем — как с человеком?! Сейчас вы снова приметесь объяснять мне, что полиция приложит все усилия, чтобы помочь, но сначала скажите, почему эти люди, которые, по-вашему, так дорожат своей честью, эти благородные стражи закона рассказывают друг другу последние анекдоты о Шефе?! А! «Шеф приводит к себе девушку и говорит...» Спасибо, спасибо! Я знаю, что он ей говорит! И моя Антонетта — тоже. Будь они все трижды прокляты!