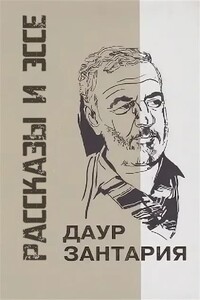И эта песня, такая сладостно-интимная, имела свойство, как и большинство южных песен, превращаться в мощный хорал, когда ее подхватывало множество голосов. Грянула эта песня, перекрывая рокот Ингура-реки, гимном пионеров новых земель, и в торжественных ее ладах вырастала энергия и напористость первопроходцев — в торжественных ладах, к которым тонким контрапунктом примешана была нотка тревоги, охватывающей при вступлении в новую жизнь. А для глядящего со стороны моря открывался вид на зеленый дол, где плясало множество юношей и дев на движущейся из-под ног земле.
Они плясали по одному и группами, а иногда, странным образом, даже несколько человек на одном месте. Еще вдобавок, что было очень странно, ряды танцующих постоянно наполнялись людьми, которых несло навстречу этому танцу вместе с почвой и со всей природой, вместе с запахами абхазской земли, ее лесами и озерами, наполнялись людьми, чьи хищные оскалы и холодные глаза выдавали абхазов. Они, поравнявшись с танцем на лугу, неловко, как с эскалатора, спрыгивали с почвы и тут, притормозив, вдруг вздрагивали и меняли выражения лиц, как от укуса вампира, глаза их мгновенно теплели и хитрели, и, преобразившись и обернувшись назад, присоединялись к танцу, рвясь туда, откуда только что их принесло, и земли не узнавая.
Все умеет она, все умеет; ты ее полюбишь, моя мать!
Песнь гремела над зеленой долиной, и все ее семиголосье было слышно совокупно, но не слитно. Потом вдруг верхние голоса выделились, зафальшивили, завизжали и стали похожи на вой. Могель проснулся. И сразу грубо и резко из дионисийского ликования был переброшен в явь, в ночь, на вершину тутового дерева.
Волки были ужасны.
Это выли они. Волки были уже тут, под деревом. Могель, и без того дрожавший от сырости, затрясся, затрепетал. Ему стало жаль себя. Волки видели его, хрупко привязанного к ветви. Суетясь под деревом, так что угли их глаз так и мелькали, волки клацали зубами, как абхазы.
Объятый ужасом, с дрожащими членами, не уверенный, что сумеет удержаться на дереве, Могель повис над волчьим воем и скрежетом зубов, с тоской вспоминая оставленную в одиночестве старушку-мать. А птицы, сидевшие по соседству, даже не проснулись. Они спали на ближайшей ветке, прильнув одна к другой и спрятав головы, спокойно уверенные, что в последний момент крылья выручат. Дворняжка же, конечно, успела улизнуть, да и что она могла сделать против стаи хищников.
Могель провел жуткую ночь. Только к рассвету волки удалились. Потом виноватой мордочкой появилась собака, невесть где прятавшаяся. Рассвет приносил успокоение. Могель даже заснул еще немного. Когда взошло солнце, он сбросил с дерева птиц и слез сам. Разминаясь, спустился к речке, умылся и позавтракал ежевикой. До мингрело-абхазской границы было пока далеко. Она появилась лишь через несколько часов ходьбы, и перешел ее Могель спокойно, безо всяких приключении и танцев.
Больше всего Могеля удивило, когда он пошел по абхазской земле, что никаких особых перемен он не ощутил, как будто продолжал шагать по Мингрелии. «А еще они клацают зубами — говорят», — подумал он.
Только вот самих абхазов нигде не было видно, словно вернулись в Адыгею. Он шел целый день до самой темноты, а все было по-прежнему. Главное, ни одного абхаза.
Из задумки медленного вхождения в Абхазию ничего не получалось.
Идея как-то себя истощила. Собака Мазакуаль первая дала знать о целесообразности воспользоваться транспортом. Процокав еще с утра весь день по такому же, как в Мингрелии, гудрону, Могель понял, что и ему это надоело.
«Вот переночую сегодня на ближайшей тутовке и завтра с утра — на автобус!» — решил он.
До сумерек оставалось несколько часов, а он уже выбрал удобную для ночлега шелковицу. Он уселся под деревом, снял глиняную обувь и спрятал в суму. Индейки быстро поднялись на дерево. Собака тут же убежала.
Созерцая вечереющую окрестность, Могель запел.
Могель тихо пел, сидя под тутовкой и созерцая вечереющие окрестности.
Мимо него по тропе проехала арба, груженная дровами. В арбу были впряжены два буйвола. Верхом на дровах сидели два мужика. Глаза у них так и зыркали, так и стреляли, зубы у них так и клацали — ясно было, что они абхазы. Тем не менее Могель встал и поклонился им, как положено в сельской местности. Мужики тоже привстали на дровах, приветствуя его.
Наверное, именно тогда из арбы выпал топор. Юноша заметил его, когда арба уже пересекла трассу. Он вскочил, поднял топор и побежал догонять арбу. Выбежав на трассу, Могель чуть было не угодил под колеса импортной и такой шикарной машины, что она переехала бы его, не заметив.
Взгляд водителя на мгновение упал на Могеля, как тень. Юношу сразу обдало холодом мчащихся мимо флюидов. Иномарка затормозила, и водитель выскочил из нее. Могель уже успел вычитать номерной код машины, потому что он был блатной и легко запоминающийся — 88–88.
Вот таким образом выглядело первое знакомство Могеля с абхазом: он стоит у трассы с топором, сверкающим под косыми лучами заката, а абхаз, решивший, по-видимому, что парень собирался с этим топором кинуться на него, замедленным шагом идет на Могеля и на ходу нащупывает за поясом наверняка пистолет. В эту минуту Могель не стал бы просить у мгновения остановиться.