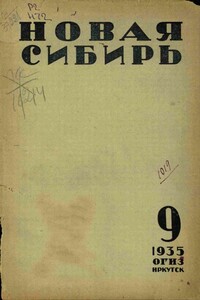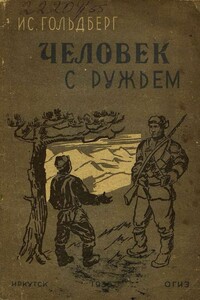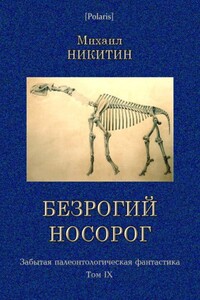— Тебе замечательно! — укорил Влас. — У тебя, поди, балованных да супротивных ребят нету, вот тебе и весело!
— У меня?.. — Савельич сразу потушил пыланье свое. Потускнел, спрятал на мгновенье глаза. — У меня, дорогой мой, ребят, действительно теперь нету. Были, слов нету, были. Но померши. Двое.
Влас с сожалением поглядел на широкобородого и примирительно заметил:
— То-то!
— Что «то-то»? — вспыхнул тот. — Думаешь, не могу я в этаком деле правильного понятия поиметь? Ошибка, дружок, вернейшая ошибка! Прямо тебе говорю: дети нонче, без смеху и изгальства сказать, умнее коих отцов растут!
— Загнул!
— Умнее!..
Савельич разгорелся, а с ближайших коек стали подходить любопытные. Стали прислушиваться к спору.
— Об чем толкуете?
— Пошто крику много, драки нет!
— Об детях спорим...
В спор о детях ввязалось несколько человек. Влас приободрился, он надеялся, что в этом споре поддержат его, а не Савельича. Но никто не пришел ему на помощь, никто его не поддержал. Все встали на сторону Савельича. И это было уже не впервые.
Не впервые почувствовал себя Влас здесь среди таких же, как и он сам, простых и трудящихся людей, немного чужим и непонятым. От этого обида вползла в него. Внутренно оправдываясь сам пред собою, он с горечью сообразил, что вокруг него собралась тут непонимающие, отбившиеся от настоящей жизни, от настоящего становления жизни люди.
— Я об своем деле свое понятие имею! — вспыхнул он, обрывая спор. — Меня не переспоришь!
— Оно и худо, дорогой мой! Очень худо этак-то! — покачал головою Савельич.
— Шибко худо!
Влас сжался, замолчал и замкнулся в себе.
И вскоре после этого написал и послал Марье и детям гневное письмо.
1.
Два письма сразу, одно за другим получила Марья от мужа. Два письма и не могла сообразить, какое послано раньше, какое позже. Чисел на письмах не было, по почтовым штемпелям тоже никто ничего не мог разобрать. А письма были разные, одно опрокидывающее другое. В одном Влас ругался и грозил добыть семью и расправиться с озорником Филькой, который срамит его своими поступками; в другом же с тревогой и недоуменьем жаловался на злых людей, на то, что нонче ничего путем не поймешь: всю жизнь, к примеру, считаешь человека честным и богобоязненным, и вдруг повернется так, что сразу всякая нечисть на нем наружу выползет. И смутно, неясно и путанно поминал про Никанора.
— Ничего не пойму, ребята! — обеспокоилась Марья.
Ребята тоже ничего не понимали и ничем не могли помочь матери. Да ребятам и некогда, недосужно было раздумывать об отцовских прихотях и загадках. У них налаживались и завязывались свои дела. Зинаида поступила в комсомол, и ее помимо производственной работы по коммуне загрузили всякой общественной работой. Филька все свободное время орудовал возле тракториста. Он терся у машин, всматривался, расспрашивал, упрашивал, чтоб ему позволили сесть за руль, помогал чистить, собирать и разбирать трактор, — учился жадно, неотрывно. И, возвращаясь вечером домой, вымазанный в масле, испачканный в копоти и саже, приносил с собою едкий керосинный дух.
Некогда было Зинаиде и Фильке задумываться об отце, который сам себя отрезал от здешней жизни, закипавшей ключом, бурно и молодо.
— Ничего не пойму! — недоумевала Марья. И было бы ей как в прежние времена удариться в тоску, в тревогу, но и ей недосужно было: поставлена она была вместе с другими тремя женщинами к скоту, к коровам, и томилось ее сердце хозяйственными заботами. Скот тощал, стояла весенняя бескормица, запасов у коммуны было мало и нужно было изворачиваться. И нужно было ладить корм из оскребышей, подбирать остатки соломы, урывать отруби, искать и искать. И приходилось Марье — сама на себя дивилась она: откуда смелость и прыть взялись? — ходить в контору, штыриться с завхозом, с председателем, попрекать их, подгонять, настаивать:
— Не на свою прошу! Не о своем хлопочу!.. Вы скотишко пожалейте, хозяева! Коровы иные как есть загляденье, а изводятся сердечные! Кормить надо! Дотянуть до свежих кормов!.. Добывайте, мужики, корма!
Сама на себя дивилась Марья. Когда впервые пришла на скотный двор, дико и непривычно было все кругом. Свою корову увидала, заплакала. Жалко чего-то стало. Жалко — а чего, и придумать и сообразить не смогла. К своей корове потянулась, ее обихаживать начала. А взглянула вокруг себя, вздохнула густой, живой, животный сытный дух, разглядела скотину, — отметила, заприметила ладную пеструху, отнятую у Устиньи Гавриловны, и десяток других породистых, дорогих коров, заприметила их. Заприметила — и взыграло у нее сердце, заболело:
— Ох, скот-то, девоньки, тощает как, глядите! Неладно этак-то, грех!
— А ты што убиваешься? — насмешливо накинулась на нее низенькая, вертлявая, веснущатая скотница. — Об чем у тебя сердце болит? Не твое ведь?
Марья на мгновенье смутилась и потускнела: а, ведь, и верно, не свое. Чего ради изводиться и хлопотать? Но мысль эта сразу же как-то и обидела Марью, стыдно ей стало немножко, по-небывалому стыдно. И она, сама с удивлением прислушиваясь к своим словам, осуждающе ответила верткой, веснущатой:
— Обчее! Всем принадлежит!.. Я не буду болеть, ты, другие, — что ж тогда из обчего хозяйства выйдет?