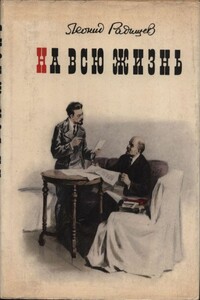Жернова. 1918–1953. Обреченность - [43]
– Поцелуй вот здесь, – прошептала она и потянула мою голову вниз, к груди.
Я послушно касаюсь ее груди губами, в одном месте, в другом, в пахучей ложбинке, потом тихонько беру губами сосок и провожу по нему языком. Скорее всего, нечаянно, – и Рая вдруг вся изгибается, запускает в мою кудлатую шевелюру пальцы обеих рук и шепчет прерывистым шепотом:
– Еще! И еще! И здесь! И здесь тоже!
Я чувствую, что ей это нравится. Но вот что удивительно: и мне нравится тоже. И я целую еще и еще, слегка прихватывая кожу губами, а руки мои, сами по себе, без всякой моей воли, шарят по ее обнаженному телу и, точно обжегшись, отскакивают от трусиков. А она толкает мою голову как раз туда, вниз, и я целую ее напряженный живот, от которого пахнет какими-то цветами. И тут Рая хватает меня за руки слабыми своими руками, и я понимаю, что дальше нельзя, и возвращаюсь к ее груди, к шее, губам… Теперь и она целует меня, словно щиплет своими отвердевшими губами, я как-то и не заметил, что лежу на ней, а ноги ее, согнутые в коленях, сжимают мои бедра, руки шарят по моему телу, все ниже, ниже… – и это почему-то меня пугает, да и ее тоже, она отталкивает меня и отворачивается к стене.
Я сажусь, обхватываю колени руками, стараясь не смотреть в ее сторону, не понимая, что сделал ей плохого, что она вдруг стала такой непреступной. Но из моих стараний не смотреть ничего не получается: глаза сами по себе обшаривают ее тело с поджатыми ногами, красные трусики, голую спину с едва заметными полосками от бретелек. Я бы и еще целовал ее грудь и ее самое, но, наверное, нельзя так много с первого раза.
Ее скомканный сарафанчик лежит рядом – даже удивительно, когда это он успел сняться. Я взял его, расправил и осторожно накрыл им Раю. Но она вдруг резко повернулась, прыснула своим сдавленным смехом, вцепилась в меня, как кошка, и повалила на спину.
– У-у, какой ты! – прошипела мне в лицо, а глаза смеются, и губы припухлые раздвинулись от уха до уха, и зубы сверкают, и розовый язык… Теперь я прижимаю ее тело к своей груди, весь мир вместе со мной растворился в ней – неописуемый восторг охватывает меня с ног до головы: ничего более восхитительного никогда до этого я не испытывал.
Рыбой форелью Рая выскользнула из моих объятий, села в стороне, приводя себя в порядок. А мне и приводить себя в порядок не нужно: на мне ничего, кроме трусов нет, а вот что делать с тем, что оттопыривается под трусами, я не знаю, поэтому сижу, зажавшись, не шевелясь, и смотрю, как она, поправив свои черные косы, застегивает пуговицы сарафана – и под ним исчезает все, что я только что целовал.
– Пойдем к нам на черешню, – вдруг предлагает она, когда мы выбрались из сарая.
– Как это? – не понимаю я. – А твоя мама?
– Ну и что? Она не рассердится. А черешню все равно девать некуда. Осыпается…
– Мне картошку окучивать надо, – говорю я, хотя, конечно, картошка могла бы и подождать. Дело вовсе не в картошке, а в том, что… Как же это так: после всего, что с нами случилось – и на черешню? Это не вмещается в моей голове. И не только это. Все, что произошло, туда не вмещается. Что-то во всем этом неправильное, в книгах я о таком не читал. Ни у Тургенева, ни у Чехова, ни у Шолохова. То есть у Шолохова есть, но без подробностей. Разве что у Мопассана, но там ведь взрослые, а мы… а мне… а мне всего лишь четырнадцать будет только в ноябре…
Наверное на моем лице что-то Рая увидела такое, что тут же потухла, опустила голову и сказала:
– А я послезавтра опять уезжаю к бабушке.
– И больше не приедешь?
– Не знаю… А ты хочешь?
– Да! – выдохнул я, испугавшись, что это может не повториться.
– Я постараюсь, – сказала она с лукавинкой в глазах. – И, потом, у нас с тобой еще сегодня и завтра. Вот. Хочешь, пойдем вечером на море?
– Хочу. А когда?
– Когда стемнеет.
– А где тебя ждать?
– Я сама приду.
Помахала рукой и пошла.
Я смотрел ей вслед и удивлялся: неужели только что было между нами все то, что было? И боюсь называть это каким-то определенным словом. Я даже, скорее всего, не знаю такого слова, и уж точно это не любовь: любовь – это нечто другое, стеснительное и робкое. В то же время я горд, что эта девочка, может быть, из-за меня не захотела, чтобы ее украли…
Вылив на себя ведро холодной воды, я иду в огород окучивать картошку. И это тоже странно и необъяснимо: после всего, что было, – окучивать картошку. Все равно, что лезть на дерево и рвать черешню. Разве так бывает? Разве так можно? И вообще, разве можно нам… в таком возрасте? Что бы сказал Павка Корчагин, если бы я рассказал ему об этом? Конечно, я бы не рассказал даже и ему, но если предположить? Наверное, он бы не одобрил, потому что… Хотя сам он с Тоней Тумановой… но у них ведь такого не могло быть, у них все было не так, как у нас с Раей… Я, наверное, сам виноват, что разрешил ей… хотя это так приятно, что не знаю как… Может быть, у всех так бывает, только все об этом молчат, потому что стыдно и неприлично. Нет, лучше ни о чем не думать. А то, как говорит мама: задумаешься и не раздумаешься.
Глава 20
Южные вечера коротки, ночи темны, хоть глаз коли. Мы – это мама, я и Людмилка – только что поужинали. Я встаю из-за стола и слышу привычное мамино:

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».
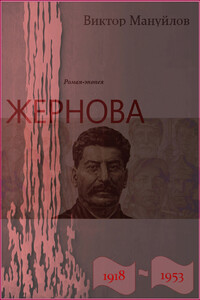
"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.
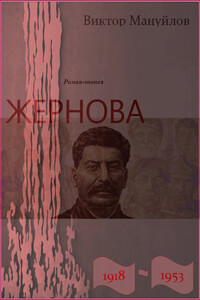
«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.

Роман Дмитрия Конаныхина «Деды и прадеды» открывает цикл книг о «крови, поте и слезах», надеждах, тяжёлом труде и счастье простых людей. Федеральная Горьковская литературная премия в номинации «Русская жизнь» за связь поколений и развитие традиций русского эпического романа (2016 г.)
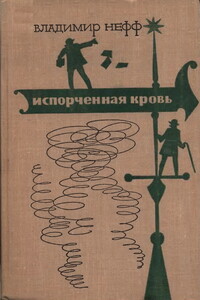
Роман «Испорченная кровь» — третья часть эпопеи Владимира Неффа об исторических судьбах чешской буржуазии. В романе, время действия которого датируется 1880–1890 годами, писатель подводит некоторые итоги пройденного его героями пути. Так, гибнет Недобыл — наиболее яркий представитель некогда могущественной чешской буржуазии. Переживает агонию и когда-то процветавшая фирма коммерсанта Борна. Кончает самоубийством старший сын этого видного «патриота» — Миша, ставший полицейским доносчиком и шпионом; в семье Борна, так же как и в семье Недобыла, ощутимо дает себя знать распад, вырождение.

Роман «Апельсин потерянного солнца» известного прозаика и профессионального журналиста Ашота Бегларяна не только о Великой Отечественной войне, в которой участвовал и, увы, пропал без вести дед автора по отцовской линии Сантур Джалалович Бегларян. Сам автор пережил три войны, развязанные в конце 20-го и начале 21-го веков против его родины — Нагорного Карабаха, борющегося за своё достойное место под солнцем. Ашот Бегларян с глубокой философичностью и тонким психологизмом размышляет над проблемами войны и мира в планетарном масштабе и, в частности, в неспокойном закавказском регионе.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.
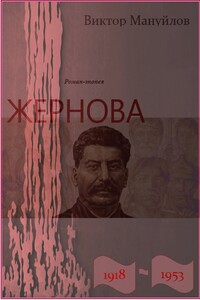
«По понтонному мосту через небольшую речку Вопь переправлялась кавалерийская дивизия. Эскадроны на рысях с дробным топотом проносились с левого берега на правый, сворачивали в сторону и пропадали среди деревьев. Вслед за всадниками запряженные цугом лошади, храпя и роняя пену, вскачь тащили пушки. Ездовые нахлестывали лошадей, орали, а сверху, срываясь в пике, заходила, вытянувшись в нитку, стая „юнкерсов“. С левого берега по ним из зарослей ивняка били всего две 37-миллиметровые зенитки. Дергались тонкие стволы, выплевывая язычки пламени и белый дым.
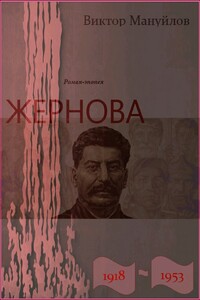
«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».
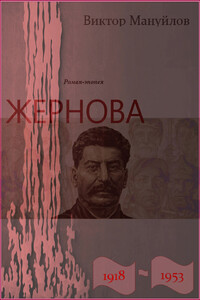
"Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость. И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…