Жернова. 1918–1953. Клетка - [18]
Бывший чекист даже не шевельнулся.
Гоглидзе помешал в каменке головни, в ее раскаленном чреве вспыхнуло пламя, оно озарило низкую избушку красноватым светом, тени заметались по черным бревнам потолка и стен, из полумрака выступило востроносое лицо Пакуса, лежащего на спине с закрытыми глазами и плотно сжатым тонкогубым впалым ртом, и Варламу Александровичу показалось, что Пакус умер, что Плошкин с мальчишками не вернется, что на всем свете не осталось ни единой живой души.
— Лев Борисыч! — вскрикнул Каменский, перегибаясь через стол. — Ле-ев Борисы-ыч!?
Пакус открыл глаза, повернул слегка голову в сторону Каменского, произнес тихо:
— Ну чего вы кричите, профессор?
— Уфф! Слава богу! — откинулся к стене Каменский, истово перекрестившись. — А то мне, знаете ли, показалось… Ах ты, господи! — сокрушенно покачал он плешивой головой и заговорил совсем не о том, о чем собирался: — Я вот уже скоро пять лет мыкаюсь, многие из тех, кто сел вместе со мною, и, заметьте, моложе меня и крепче, давно предстали пред Всевышним, а я все скриплю, все цепляюсь за жизнь, все надеюсь, что вернется прошлое. А зачем, спрашивается, цепляюсь? И было ли оно — прошлое-то? Наконец, возможна ли жизнь вообще, чтобы ни в лагере, ни в тюрьме, ни на пересылке? И разве жизнь тех, кто на воле, не является жизнью за той же колючей проволокой… только с обратной стороны? Ведь существо от этого не меняется — с какой стороны…
Варлам Александрович помолчал, ожидая возражений, но никто не возразил, ни словом, ни движением не выразил своего отношения к сказанному. И бывший адвокат продолжил развивать мысль, ему самому еще далеко не ясную:
— Скажем, в девятьсот десятом — разве мог я тогда даже в дурном сне увидеть самого себя сегодняшнего? Бывало, закончится процесс, твой подопечный осужден на каторжные работы, а ты со спокойной совестью садишься на извозчика и едешь в "Славянский базар"… Смирновская, балычок, расстегаи, архиерейская ушица… Сахалин казался выдуманным Чеховым, каторга, тюрьма и прочие вещи — представлялись чем-то потусторонним, и осужденные уходили в другой мир, который как бы и не существовал для меня самого. Революция пятого года казалась тогда недоразумением, детской шалостью, непозволительной в зрелые годы. Думалось, что, пошалив, отдав дань исторической моде, мы повзрослели, что Россия выходит на новый путь, что ей предстоит великое будущее… А тут еще Столыпин с его устремленностью к переменам вселил кое-какие надежды… Куда все подевалось? Бож-же ж ты мой, бож-же ж ты мой!
— Почему вы решили, что России, то есть Советскому Союзу, не предстоит великое будущее? — прошамкал Пакус беззубым ртом. — У нее уже есть великое настоящее, а будущее предстоит еще более величественное.
— Да нам-то до этого что! — всплеснул руками Каменский. — Да и врете вы, батенька мой! Все врете — и себе, и другим! Я так думаю, что как только вы, евреи, перестанете врать, так потеряете опору в своей жизни, вам нечем станет существовать. Величие России! Да как вы, предки которого были гражданами разных стран, из поколения в поколение пытавшиеся приспособиться к чужим обычаям и надеть на себя личину очередной чужой нации, и только для того, чтобы разложить эту нацию изнутри и подчинить ее себе, прожившие большую часть жизни на задворках Европы, как можете вы судить о величии России? Для вас величие России — это выживание и торжество вашей бездомной нации! Это ваш человек убил Столыпина! Ваш человек убил Распутина, которого, строго говоря, следовало убить лет на десять раньше! Ваш человек убил Урицкого. Ваш человек стрелял в Ленина, хотя очень жаль, что не застрелил. И ваш же человек убьет когда-нибудь Сталина, если тот станет неугоден евреям…
Каменский перевел дыхание, махнул рукой:
— Ну да бог с ним, со Сталиным! Сталин… Сталин — это, если угодно, рок и для русских, и для евреев. И вряд ли он добрее к кому-нибудь из них. Но зато вы, евреи, все эти годы после переворота так унижали все русское, так старательно свергали с пьедесталов русскую культуру, традиции, так усиленно расхваливали мнимые достижения своих соплеменников, так старались внушить нам, русским, что без вас, евреев, мы не стоим ломаного гроша, будто все, что есть в нас так называемого прогрессивного, все это дали вы, что без вас встанет наука, литература, искусство, прекратится жизнь, что… что… я уж и не знаю, в каких областях вы не преуспели! Но вы добились, по-моему, совершенно противоположных результатов!
— Мне совсем не хочется с вами спорить, — устало шелестел из полумрака голос Пакуса. — Тем более что я атеист, не верю ни в еврейского бога, ни в русского, ни во всех прочих. Споры на тему о зловредности евреев закончились еще в начале века. Да и у нас с вами не то положение, когда надо увлекаться философскими построениями и побивать друг друга камнями.
И Пакус снова прикрыл глаза.
Потрескивали остывающие камни, что-то еле слышно мычал Гоглидзе, безотрывно глядя на догорающие головни.
— Да, вы, пожалуй, правы: не до философии, — после продолжительного молчания мрачно согласился Каменский, продолжая, однако, философствовать. — И положение наше хуже губернаторского. Такое ощущение, что вырвался из клетки меньшего размера, а все равно в клетке, только решеток не видать… И вот странность: уже хочется назад, в ту, где до решеток можно дотронуться рукой…

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».
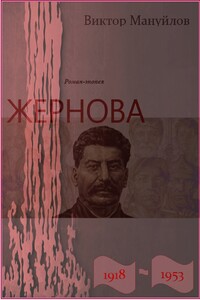
«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.
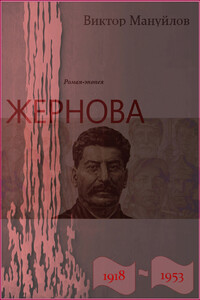
"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

Отряд красноармейцев объезжает ближайшие от Знаменки села, вылавливая участников белогвардейского мятежа. Случайно попавшая в руки командира отряда Головина записка, указывает место, где скрывается Степан Золотарев, известный своей жестокостью главарь белых…
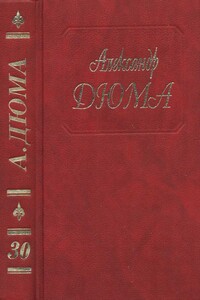
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
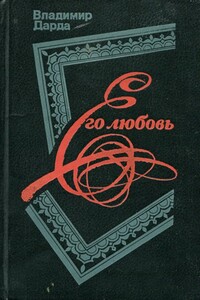
Украинский прозаик Владимир Дарда — автор нескольких книг. «Его любовь» — первая книга писателя, выходящая в переводе на русский язык. В нее вошли повести «Глубины сердца», «Грустные метаморфозы», «Теща» — о наших современниках, о судьбах молодой семьи; «Возвращение» — о мужестве советских людей, попавших в фашистский концлагерь; «Его любовь» — о великом Кобзаре Тарасе Григорьевиче Шевченко.
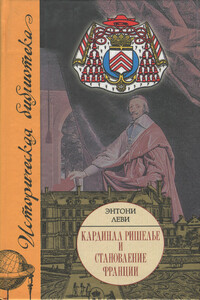
Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.
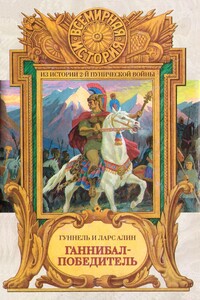
Роман шведских писателей Гуннель и Ларса Алин посвящён выдающемуся полководцу античности Ганнибалу. Рассказ ведётся от лица летописца-поэта, сопровождавшего Ганнибала в его походе из Испании в Италию через Пиренеи в 218 г. н. э. во время Второй Пунической войны. И хотя хронологически действие ограничено рамками этого периода войны, в романе говорится и о многих других событиях тех лет.
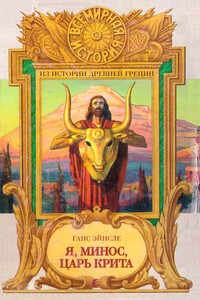
Каким был легендарный властитель Крита, мудрый законодатель, строитель городов и кораблей, силу которого признавала вся Эллада? Об этом в своём романе «Я, Минос, царь Крита» размышляет современный немецкий писатель Ганс Эйнсле.
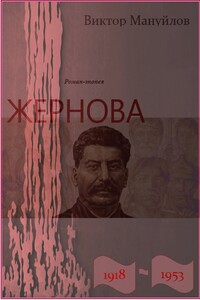
«По понтонному мосту через небольшую речку Вопь переправлялась кавалерийская дивизия. Эскадроны на рысях с дробным топотом проносились с левого берега на правый, сворачивали в сторону и пропадали среди деревьев. Вслед за всадниками запряженные цугом лошади, храпя и роняя пену, вскачь тащили пушки. Ездовые нахлестывали лошадей, орали, а сверху, срываясь в пике, заходила, вытянувшись в нитку, стая „юнкерсов“. С левого берега по ним из зарослей ивняка били всего две 37-миллиметровые зенитки. Дергались тонкие стволы, выплевывая язычки пламени и белый дым.
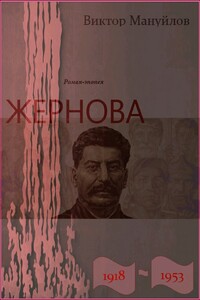
«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…
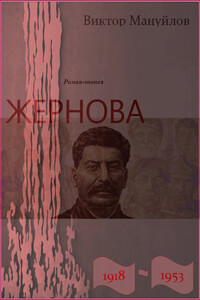
«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.